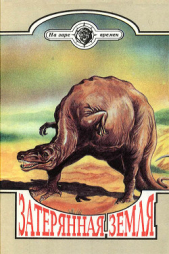Стихотворения. Прощание. Трижды содрогнувшаяся земля

Стихотворения. Прощание. Трижды содрогнувшаяся земля читать книгу онлайн
"Прощание" (1940) (перевод И. А. Горкиной и И. А. Горкина) - роман о корнях и истоках гитлеровского фашизма. Это роман большой реалистической силы. Необыкновенная тщательность изображения деталей быта и нравов, точность воплощения социальных характеров, блестящие зарисовки среды и обстановки, тонкие психологические характеристики - все это свидетельства реалистического мастерства писателя.
"Трижды содрогнувшаяся земля" (перевод Г. Я. Снимщиковой) - небольшие рассказы о виденном, пережитом и наблюденном, о продуманном и прочувствованном, о пропущенном через "фильтры" ума и сердца.
Стихотворения в переводе Е. Николаевской, В. Микушевича, А. Голембы, Л. Гинзбурга, Ю. Корнеева, В. Левика, С. Северцева, В. Инбер и др.
Вступительная статья и составление А. Дымшица.
Примечания Г. Егоровой.
Иллюстрации М. Туровского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Это было оно», в сиянии его света стояла мама.
— Послушайте, я давно хотел спросить, не знает ли кто из вас, как назывался тот корабль, это был целый корабль…
— Он назывался… назывался… — стал вспоминать Левенштейн и вспомнил: — Броненосец «Потемкин».
Да, это оно и есть! Все это звенья одной цепи, и они — дорога к новой жизни. Великое, единое целое!
Другой, новый мир…
Мы поднялись с зарей и по широкой магистрали покатили в Меерсбург. Не раз нам приходилось слезать с велосипедов и вести их в гору. Мы ехали как по огромному холмистому яблоневому саду, кое-где перемежавшемуся виноградниками. Когда мы наконец достигли Меерсбурга и перед нами широко раскинулось озеро, залитое расплавленным золотом солнца, Левенштейн спросил меня:
— Ты читал книгу Готфрида Келлера «Зеленый Генрих»? Нет?!
Гартингер, конечно, читал. Левенштейн помнил наизусть слова: «И если в каждом вечернем облачке мне видится знамя бессмертия, то пусть каждое утреннее облако станет для меня золотым стягом всемирной республики».
«Да, это оно и есть!» — звучали во мне отголоски моих вчерашних дум. Горы со снежными вершинами стояли полукругом, будто замыкая озеро высокой зубчатой стеной. «Это и есть самое важное, самое важное…» Совсем иные облака плыли в высоком, бесконечном небе. Следя за их парящим полетом, мог ли я оставаться прежним? Страхи рассеялись, и «зачем? зачем?» — спрашивало высокое, бесконечное небо, взирая сверху на поле сражения. Прекрасен мир, прекрасен… И потому, что он так неизъяснимо прекрасен, непременно наступит новая, совсем новая жизнь.
Через всю эту красоту, охраняя чьи-то внушительные владения, тянулась ограда, перевитая колючей проволокой, и грозная табличка предупреждала: «Злые собаки». Сразу зазвучали деланные голоса отца и лесоруба, и прекрасный мир раскололся на две половины. Но и прекрасная половина мира уже не была так прекрасна, она потускнела, ибо тени, отбрасываемые на нее другой, темной половиной, омрачали и тревожили ее.
Мы поехали дальше, до Крессбронна. Там мы нашли приют у владельца мелочной лавчонки, который жил у самого озера и, помимо торговли, давал напрокат лодки. Мы оставили у него велосипеды и побрели по берегу, швыряя в воду плоские камешки. Я смотрел вслед каждому пароходу, проплывавшему вдали, словно это и был тот самый благословенный корабль, привидевшийся мне однажды во сне, где я бежал на берег встречать его и от радости швырял камешки в воду.
Утром, когда мы проснулись на своем сеновале, из лавчонки к нам донесся крестьянский говор, чуждый, почти непонятный нам, точно в родной стране бок о бок с нами жили какие-то иностранцы. «Трое чужаков» и «городские» — называл нас лавочник в разговоре с крестьянами. Местные жители сторонились нас, но совершенно так же крессброннцы сторонились людвигсгафенцев, да и между жителями одного и того же селения не было единства, и они часто оспаривали друг у друга право называться «здешними». Общины враждовали с общинами, злобились друг на друга и вели нескончаемые тяжбы. Гартингер еще мог бы, пожалуй, найти общий язык с «чужеземцами», но и он невольно говорил с ними деланным голосом, да и те недоверчиво оглядывали его.
Мне опять стало страшно за Новую жизнь, особенно когда я подумал о городе: все отгородились друг от друга точно колючей проволокой, и грозная табличка предупреждала: «Осторожно! Злые собаки! Вход воспрещен!» Разве отец Гартингера не обнес высоким забором, чуть ли не в метр вышиной, приобретенный им жалкий клочок земли на заднем дворе, где он разводил бобы? И как он гордился своим забором, как тщательно и любовно каждую весну приводил его в порядок, заново красил и не упускал случая повесить табличку: «Осторожно! Окрашено!» А мой отец состоял в корпорации «Суэвия», куда более аристократической, чем «Франкония», не говоря уже о каких-то там землячествах. Ферейн игроков в кегли презирал ферейн игроков в скат, люди различных вероисповеданий и партий проявляли абсолютную нетерпимость друг к другу: мужские хоры постоянно воевали со смешанными; спортивные ферейны, различавшиеся по цвету трусов, состязались друг с другом… Весь мир, казалось, взят на откуп ферейнами…
Левенштейн пренебрежительно бросил:
— Мне бы их заботы: доится корова или не доится…
— Доится корова или не доится — это, по-твоему, не важно? — спокойно возразил ему Гартингер. — Не важно, как и чем живет человек? Ну, знаешь, ты глубоко заблуждаешься… Вообще, все то, что ты говоришь о крестьянах…
— С крестьянами мы легко столкуемся, только бы в городе решилось дело… — упорствовал Левенштейн.
«Можно ли все это объединить? — растерянно спрашивал я себя. — Каждая половина мира раздроблена, расщеплена, обезображена, так где же она и что она такое, эта Германия?!»
В Констанц мы попали на первый день пасхи. Колокола гулко благовестили воскресение из мертвых. Пузатые дома с островерхими фронтонами отбрасывали тень на тротуары узких извилистых улочек. И это тоже была она, моя родина. Время, отделявшее Нердлинген от нынешнего дня, как бы стерлось. Я сел и написал письмо Мопсу, словно исполняя обещание написать «немедленно».
Дом на улице Гуса у Шнецских ворот, где Гус был схвачен тюремщиками, украшали мемориальная доска и барельеф. Расположенный на одном из озерных островов доминиканский монастырь, где Гус томился в заточении, перестроили в гостиницу. В главном нефе Констанцского собора, в шестнадцати шагах от центрального прохода, на одной из больших каменных плит было обозначено то место, на котором стоял Гус, когда церковный собор приговорил его к сожжению.
Один за другим ступили мы на большую каменную плиту…
Мы сидели в тесной, низенькой, обшитой деревянными панелями комнате в погребке «У святого Стефана». Последний вечер: завтра мы возвращаемся в Мюнхен. Разговоры не умолкали.
— Вот сейчас ты дело говоришь! — воскликнул Гартингер, кивая Левенштейну, который рассказывал много интересного из истории крестьянских войн. — Неужели ты не замечаешь, что сам себе противоречишь? Помнишь, что ты говорил вчера о крестьянстве?
— Революционер — и верит в бога, как это совмещается? — спросил я нерешительно, в моей голове не укладывалось, что Ян Гус и Томас Мюнцер были революционерами и вместе с тем верили в бога
Левенштейн усмехнулся на мой вопрос и собирался пропустить его мимо ушей.
— Ничего смешного тут нет! — почти грубо одернул его Гартингер. — Даже и на глупый вопрос надо отвечать без высокомерной усмешечки. Эта усмешечка может в конце концов привести тебя к полному одиночеству
Левенштейн говорил очень гладко, легко увлекался, и тогда забывал обо всех и обо всем. Меня поражало его умение удивительно красиво строить фразу, но порой мне казалось, что удачному обороту он готов принести в жертву даже смысл, и это часто приводило его к неожиданным и для него самого нежелательным выводам. Однако, раз придя к ним, он упорно их отстаивал и только на следующий день, если разговор заходил на ту же тему, молча давал понять, что признает свою вчерашнюю ошибку. В присутствии Гартингера Левенштейн становился другим, он в значительной степени утрачивал ту уверенность, с какой говорил там, в Английском парке, у водопада. Быть может, он чувствовал превосходство Гартингера, хотя тот и уступал ему в знаниях, и, желая отстоять себя, впадал в излишнюю крикливость, а может быть, он говорил всякие благоглупости просто из желания порисоваться. То ли стараясь сгладить социальное различие между собой и Гартингером, то ли считая себя обязанным доказать, что, несмотря на свое буржуазное происхождение, он все же подлинный социалист, Левенштейн сегодня из кожи лез, выставляя напоказ свои социалистические убеждения, и порой делал это в неприятной, преувеличенной форме, подчас в ущерб великой идее. Гартингер говорил вперемежку на двух языках. Свою естественную речь он пересыпал выражениями, позаимствованными из газет и книг, уместными, пожалуй, на каком-нибудь собрании, но не в частном разговоре. Нередко, произнося такую книжную фразу, он сам спохватывался и, не договорив до конца, возвращался к своей обычной речи. Он не находил общего языка с Левенштейном, говорил тоном непререкаемого авторитета, точно учитель с учеником, и это тоже мало способствовало их взаимному пониманию; в результате, едва обменявшись несколькими словами, они, хоть и были единомышленниками, начинали спорить. Они спорили ожесточенно, каждый старался больно уколоть и уязвить другого, и в конце концов оба почти забывали о предмете спора. Мне казалось, что они сводят втайне какие-то счеты. Гартингер как бы ставил в вину Левенштейну, что у того так много знаний, которые он, Гартингер, лишенный возможности учиться, не мог приобрести. А Левенштейн, казалось, был на Гартингера в обиде за то, что, несмотря на недостаток знаний, тот судит о многом правильнее, чем он, и что такое преимущество дает Гартингеру его происхождение и приобретенный им жизненный опыт. Проходило немало времени, пока этот спор утихал, и они убеждались, что, учась друг у друга, лучше служат общему делу. На меня Левенштейн не обращал сегодня никакого внимания и ясно давал мне понять, что мое мнение в счет не идет. Гартингер же, наоборот, говорил со мной как добрый товарищ: когда он видел, что я не успеваю следить за ходом его рассуждений, он останавливался, давая мне время подумать. Так говорил со мной Левенштейн у водопада в Английском парке, когда я его ждал там в тумане, а потом искал его носовой платок, и Левенштейн в благодарность спел незнакомую мне песню. Своими речами Гартингер как бы бережно помогал мне переступить через самого себя. Временами он предоставлял мне самому распутать что-либо непонятное, как тогда, у садоводства Бухнера. «Правильно!» — спешил он поддержать меня, едва я приближался к истине, и поощрял мои усилия разобраться в новых для меня мыслях.