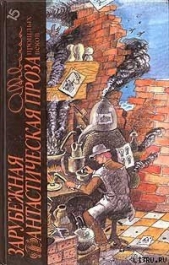Злые песни Гийома дю Вентре : Прозаический комментарий к поэтической биографии.

Злые песни Гийома дю Вентре : Прозаический комментарий к поэтической биографии. читать книгу онлайн
Пишу и сам себе не верю. Неужели сбылось? Неужели правда мне оказана честь вывести и представить вам, читатель, этого бретера и гуляку, друга моей юности, дравшегося в Варфоломеевскую ночь на стороне избиваемых гугенотов, еретика и атеиста, осужденного по 58-й с несколькими пунктами, гасконца, потому что им был д'Артаньян, и друга Генриха Наваррца, потому что мы все читали «Королеву Марго», великого и никому не известного зека Гийома дю Вентре?
Сорок лет назад я впервые запомнил его строки. Мне было тогда восемь лет, и он, похожий на другого моего кумира, Сирано де Бержерака, участвовал в наших мальчишеских ристалищах. «Свой фетр снимая грациозно, на землю плащ спускаю я» соседствовало в моем рыцарском лексиконе со строками: «Пустить вам кварту крови квартой шпаги поклялся тот, кто вами оскорблен». Но, в отличие от Сирано, который жил только в моем воображении да в старой серовато-чернильной книжке Ростана, Гийом (это я уже тогда знал) существовал в реальности — в городе Абан за Уральским хребтом. У меня было даже доказательство его присутствия на земле — часы, подаренные мне, часы, на золотом корпусе которых стояли мои инициалы АКС, сплетенные в причудливый вензель.
Нет, нет, читатель, это не бред воспаленного воображения—это наша жизнь, умеющая сплести из нитей чистой, неприкрашенной правды ковер-самолет, или шапку-невидимку, или судьбу Гийома дю Вентре.
Извольте, оставим романтическую часть этой истории, возьмем ее вполне реальные очертания, которые можно подтвердить документами из личного дела, досье, переписки или метрикой, ратентом, справкой о реабилитации.
Жил-был человек по фамилии Харон, хромировал бабки и преподавал во ВГИКе, дирижировал оркестром и валил двуручной пилой кедры, изобретал многоканальную систему звукозаписи и карусельный станок по непрерывной разливке чугуна, присутствовал на премьере «Броненосца „Потемкин"» в Берлине и при убийстве царевича Димитрия в Угличе, бил ломом лунки под взрывчатку и учил сына произносить букву «р» непременно в слове «синхрофазотрон». Был поэтом и педантом, вольнодумцем и ортодоксом, болел всеми болезнями своего времени и имел к ним пожизненный иммунитет. Был похож на птицу и вообще, и в смысле «мы вольные птицы; пора, брат, пора». И умер в благополучной Москве от лагерного туберкулезного удушья, перехватившего вздох легких.
Вам уже стало понятнее, читатель? Значит, мы на верном пути.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Эти педагогические раздумья завладели мной, правда, задолго до рожденья Юрки-маленького. В сорок восьмом, дав нам годик отдышаться, нас — «набор» тридцать седьмого — решили снова «призвать»: видимо, по первому заходу не удалось определить, кто истинный альбинос, а кто мимикрирует, маскируется. После соответствующих процедур мы отправились «на вечное поселение» в Красноярский край (кавычки-то потом появились, когда выяснилось, что ничто не вечно под луной, а тогда было еще не до кавычек), и там, в районном селе, отстоящем от железной дороги на семьдесят километров и основанном еще в 1762 году для тех же самых целей (за прошедшие два века там успели пожить и поумирать, в частности, несколько декабристов), мне довелось — меж прочих разнообразных дел — пару лет поработать счетоводом в школе, а попутно и вести в пятых — седьмых классах черчение и физику: учителей у нас перманентно не хватает. К счастью, уже начали поговаривать насчет политехнизации школы, а то бы я спасовал. Вспомнив самое яркое из собственного детства, я отправился в соседнюю МТС и провел там артподготовку. Вскоре нам выделили выбракованный двигатель, мы там же распилили его вдоль и перетащили в школу, прихватив от шефов еще и кучу таблиц — от прошлогодних курсов трактористов остались.
Занятия в автотракторном кружке (а в этом первом кружке занималось под конец учебного года чуть ли не полшколы, так что пришлось разделить занятия на три группы, и принимать одних успевающих, и подвергать исключению нарушителей дисциплины, и т. д., и т. п.) служили отличным катализатором для всей физики, и для химии, и даже математики! Одно дело — учить какие-то там правила правой или левой руки, формулы сопротивления и прочие законы Ома в селе, живущем почти сплошь на керосине. Другое дело — всамделишный мотор! Ах, оказывается, в нем нужно какое-то зажигание? От аккумулятора? От динамо? Сделайте одолжение, расскажите про электричество — это ж совсем другое дело!
…И снова я думаю: бедный мой Юрка-маленький! Какими калачами придется его заманивать — ладно, не про электричество идет разговор: это я ему как-нибудь сам растолкую, невелика наука,— а вот, скажем, в сферу термодинамики? или акустики? или оптики?
В Сибири ради этой проклятой оптики пришлось организовать фотокружок — приятное с полезным. А что делать в Москве?
Вернее, так: что делать сегодня, чтобы и нашим детям показалось увлекательным и удивительным, что вот, оказывается, зеркало отражает предметы по закону «угол падения равен углу отражения» и так далее, чтобы они не проходили равнодушно мимо зеркала, словно и чуда-то нет в нем никакого? Не так давно Юрка-маленький спросил меня, для чего в нашем лифте висит зеркало. Я ему сказал: чтобы ты и другие мальчики, пользующиеся лифтом, смотрели в зеркало, а не царапали на стенках кабины всякие непристойности. Юрке бы подивиться мудрости отца, но об этом он и не подумал. Он только пристает ко мне с тех пор: что такое непристойности и как их царапать на стенке.
А ребята в той сибирской школе одновременно с ее окончанием получали на руки и права — тракториста и водителя автомашины. Я не знаю, пригодились ли эти документы (или знания) кому-нибудь из моих кружковцев практически. Во всяком случае, никому из них не угрожал конфуз, случившийся со мной перед Дорой…
Кстати, и в консерватории меня влекли, сколько я помню, лишь новые сведения, новые факты,— пожалуй, иной раз и новые звучания, и новые (для меня — новые, но в действительности очень даже древние) объяснения различных звучаний… Никогда не забуду, каким откровением было для меня объяснение «таинственности» увертюры к «Летучему голландцу». Ну, все вы знаете эту увертюру, и совершенно исключается, чтобы вы не ощутили этакого холодка, пробегающего по коже при первом же проведении первой темы: столько в ней напряженной неизвестности, недосказанности… А ларчик открывается весьма просто: оказывается, тут Вагнер впрямую недосказывает — очень долго он не дает прозвучать терции, ни большой, ни малой, и мы, слушатели, из-за этого умолчания никак не можем определить тональность — то ли мажор, то ли минор? Вместо определенного трезвучия (мажорного — с большой терцией или минорного — с малой) звучит голая квинта, затем звучат еще и промежуточные ступени (кроме шестой, которая тоже могла бы «проболтаться» о своей тональной принадлежности), и эта-то недосказанность в первую очередь и создает у нас чувство тревоги, таинственности и прочей мистики.
О том, как трудно сегодня играть Моцарта и вообще клавесинную музыку на современном рояле, я уже говорил, а сейчас упомяну только, что сама-то трудность эта привлекла к себе мое внимание в свое время опять-таки в связи с открытием, сделанным мною в первое же посещение нашего музея — коллекции старинных инструментов. Стоял там и моцартовский клавесин, и с высочайшего разрешения смотрителя можно было присесть к нему и поиграть на этом странном драндулете, даже и клавиши которого были «не нашего» цвета: нижние — черными, а верхние — белыми… Я опустил руки на эти клавиши, хранившие, как кажется в подобном случае, еще если не тепло, то, может, остатки дактилоскопии моцартовских пальцев,— ну, почему ж и не пофантазировать?
Я только капельку поиграл, самую малость — каких-нибудь десяток тактов, а дальше играть не мог: радость вызывает и смех, и слезы. Слез не было (я ведь толстокожий), а смеялся я от души: вон как, оказывается, звучало то, что написал Моцарт! А мы-то, дурачки, хотим воспроизвести это на Бехштейне! Ну-ка, ну-ка, давай еще немного попробуем… Ах, черт, как это звучит!
С этого и началось.
Потом, уже у Шрекера (Франц Шрекер номинально руководил нашим дирижерским классом, но из-за старости, бурной композиторской и дирижерской деятельности, да еще из-за своего «генерал-музик-директорства», совсем ему ненужного, посещал нас крайне редко, поручая занятия многочисленным ассистентам), я чуть ли не каждый божий день узнавал все новые профессиональные секреты, по-настоящему увлекательные, неожиданные, гениальные и простые одновременно. Чего стоит хотя бы «проблема атаки», как называют эту штуку молодые (а иногда и не очень молодые) дирижеры! Суть дела состоит в том, что начало игры — атака — протекает совершенно различно на разных инструментах. Ударные и струнно-смычковые могут практически начать «строго по руке»: первое же прикосновение к звучащему телу (струне, коже литавры, тарелке и т. д.) зарождает звук. Иная картина у духовых: подуть в кларнет или в тромбон — это еще не значит извлечь звук, воздушному потоку необходимо еще возбудить определенные колебания, привести весь инструмент в некое состояние звучания,— короче говоря, у духовых атака слегка задержанная.