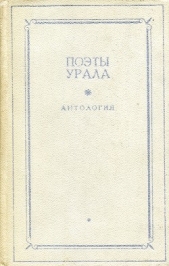Спускался город стройными рядами
до берега. На улицах весной
цвели деревья белыми цветами.
Их гроздья душные и первый зной,
и море, брызгами пришельца встретив,
и песни порта — дерзкий жизни жар —
кружили голову, как кружит ветер,
из рук ребенка вырвав пестрый шар.
В моей душе я сохранил упрямо
его простор и зной, и простоту,
гул площадей и шорох ночи пряной,
и первую над городом звезду.
Я помню запах водорослей синих,
игрушечные в небе облака,
ночами — сети звезд и вместе с ними
над морем глаз трехцветный маяка.
Я помню, как кружился ветер вольный
и в море чаек обрывал полет;
как на глазах — из глубины на волны
тяжелый поднимался пароход.
Шли корабли Неаполя, Марселя
за деревенским золотым зерном,
и вечерами чуждое веселье
гремело над просмоленным бортом.
Я помню окрик в рокоте лебедок,
тяжелый шелест жаркого зерна,
рядами бочки и на бочках деготь,
и деготь солнцем плавила весна.
Я помню кости черной эстакады
и бурный дым… О, в дыме не найти,
кому они последнею наградой
за светлые привольные пути.
Здесь — в раскаленных дереве и стали,
без горечи, без страха и тоски
любили, верили и умирали
лукавые морские мужики.
Я помню сладкие цветы акаций
и пыль, и соль, и розовый туман,
и острый парус — ветренный искатель
ненарисованных на карте стран.
Я помню степь — ковыль косою русой
и шорох волн, и желтый лунный круг,
когда руке так радостно коснуться
доверчивых и боязливых рук.
О, власть весны! Язык любви и встречи:
единственный — он так священно прост,
когда над городом весенний вечер
и между звезд раскинут млечный мост.
Я помню город. Я давно отрезан
от стен его границами людей,
но сколько раз — под строгий рокот леса,
под шорох медленных чужих полей
я повторял — Одесса!
«Воля России». 1929. № 7
Не нужен мне стрелок стук
и поезда рокот мерный:
я ночью найду в порту
светящиеся таверны.
Там негр — корабельный кок,
там рыжий матрос французский,
малаец — больной Восток
в глазах его злых и узких.
Отбросив и гнев и лесть,
о бурях, поломках мачты,
о том, что ушло и есть,
бормочут сквозь дым табачный.
Пусть в лампах коптят огни,
пол рваной покрыт рогожей,
встречает любой из них
суровость Судьбы без дрожи.
И с ними без дней и рельс
от слов и несвязных тостов
я вижу: безумный рейс
за кладом на Черный остров.
«Своими путями». 1925. № 11
Распахнул у рубахи ворот,
сбросил рваное кепи прочь…
Мокрый ветер пригонит скоро
из-за моря слепую ночь.
В ночь дождливую ветер плачет,
тушит гавани полукруг;
в море — волны, патруль рыбачий,
крики, выстрел… и сердца стук!
Резкий выстрел — ненужно поздний;
весла гнутся стальной рукой.
Близок берег, и дразнит ноздри
запах водоросли морской.
Море спрячет: в песке шершавом
смоет лодки глубокий взлет…
Завтра в гавани пестрым тавром
он любую с собой возьмет!
«Своими путями». 1923. № 3–4
Мы покинем громоздкий порт.
Капитан нам прикажет строго:
«Обломите стрелу „на норд“,
чтоб назад не найти дорогу».
Как щенок заскулит волна,
всколыхнется упругой кожей…
Эта первая ласка нам
будет всякой любви дороже.
По волнам заскользит фрегат,
проводя по воде чертою.
Белый месяц свои рога
окропит ледяной водою;
и искривленным злобой ртом
пьяный ветер, упав на снасти,
будет петь парусам о том,
как за морем привыкли к счастью.
Из Лиссабона в Аргентину
плывут испанские купцы.
Фатой оделась бригантина,
развеяв в воздухе концы.
Эй, бригантина! Мало джина
в бочонках плещется у нас.
Кроваво-алым серпантином
взметнется к небу тишина.
В огне последнем выгнут спины
твои резные якоря…
Ах, бригантина, бригантина,
с веселым именем «Заря»!
Мы пристанем в полночный час
и, привычно покой измерив,
сбросив ношу свою с плеча,
застучим по закрытой двери:
«Эй хозяин! Оглохший крот!
Приготовь и вино и кости!
Сто дукатов за ночь вперед.
Гости все, кто придет к нам в гости».
И, стакан осушив до дна,
бросим золото в грязь таверны…
Пока золото есть у нас,
наш хозяин до смерти верен.
Объедем дальние моря.
В них тихо спит кораллов риф,
и солнцем крашенный моряк
ждет появления зари.
Косой угольник — парус джонки,
как птица раненым крылом,
хлестнет по ветру плеском звонким
и снова ляжет тяжело.
Повстречается нам корвет,
королевский корвет суровый,
на сигналы его ракет
мы ответим свинцовым словом.
И в минуты прожив года
в свисте пуль и обрывках снасти,
крикнем хрипло: «На абордаж!» —
и застынем, дрожа от страсти.
И, свободы встречая час,
белый череп с двумя костями
скажет волнам, кому из нас
отдохнуть в изумрудной яме.
В заливе, только нам известном,
залечим раненую грудь…
Сухие доски рядом тесным
Проснутся вместе поутру.
Поставим мачты, реи; щели
законопатит жесткий мох,
чтобы в конце второй недели
другой корвет нас встретить мог.
А когда под защитой гор
нам наскучит покой ленивый,
мы покинем в железный шторм
наше место в углу залива.
И сгибаясь над массой вод,
и смеясь над угрозой тучи,
будем плыть без руля вперед,
пока нас не найдет Летучий.
Пока ночью от ветра злой,
повстречав на пути Голландца,
на паркете волны морской
не споткнемся в последнем танце.
«Своими путями». 1926. № 12–13