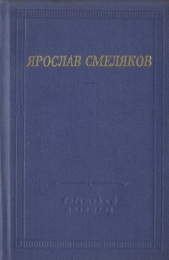Мы в город, едва различимый вдали,
шагая с трудом, наконец-то вошли,
как словно бы тот сирота-верблюжонок,
что еле плетется в дорожной пыли.
Нестройно по теплым с утра мостовым
мы шли босиком за вожатым своим,
прохожие сразу же нас понимали
по грязным рубахам и шапкам худым.
В том доме, куда привели сорванцов,
ютилось немало таких же мальцов,
и вскоре уже на дворе мы шумели,
все в белых рубашках, как стайка птенцов.
Я в первый же день, беззащитен и мал,
впервые лицо Ильича увидал,
почувствовал в нем доброту и защиту
и сразу сильней и уверенней стал.
Он прямо глядел на меня, как живой,
дыша теплотой и светясь добротой.
И, солнцем улыбки его согреваясь,
забыл я, что был до сих пор сиротой.
<1958>
Полвека я не без труда
уже прошел путем крутым,
но для народа навсегда
хочу остаться молодым.
Пускай приметна седина —
примет я этих не боюсь:
ведь для тебя, моя страна,
я только сыном остаюсь.
И твердо знаю, что и впредь,
крепя союз безмолвный наш,
ты не позволишь мне стареть,
душой погаснуть мне не дашь.
Я у тебя еще в долгу.
Служить тебе я жизнью рад.
Быть лежебокой не могу,
хоть мне уже и пятьдесят.
Пусть не иссякнут никогда
любовь и труд — всё, чем горжусь.
Я, словно мальчик, сквозь года
к тебе, как к матери, тянусь.
<1958>
Когда еще был я мальчишкой вихрастым,
любви и поэзии вовсе не знал,
дыша учащенно и радостно, часто
верхом по степи я, как ветер, скакал.
Однажды в ту пору, в то давнее время,
костер я увидел в родимых краях
и вдруг услыхал, придержав свое стремя,
как пел о любви седовласый казах.
Откуда пришла, появилась откуда
ты, русская песня, в безбрежье степей?
Письмо русской девушки — это ль не чудо!
поет по-казахски степной соловей.
Глаза старика застилались туманом,
мерцали волшебные вспышки огня,
и женщина с именем русским Татьяна —
любовь и стихи — покорила меня.
С тех пор эта песня не раз мне звучала,
и слышало радостно ухо мое,
как эхом весенняя степь повторяла
протяжные, нежные строки ее.
Слыхал я, как пели с волненьем глубоким
в колхозных аулах, в счастливом краю
джигиты степей для подруг чернооких
посланье Татьяны, как песню свою.
Я знаю, как в пору цветенья ромашки,
в ту пору, когда зацветает трава,
влюбляются вслед за Татьяной казашки
и шепчут ее золотые слова.
Абай наш, мы трижды тебе благодарны
за то, что ты русское слово любил
и щедрой рукою, как свет лучезарный,
поэзию Пушкина нам подарил.
Наш Пушкин! Еще в те далекие годы,
когда нас в оковах держал произвол,
ты с песней любви и стихами свободы
в казахскую степь, словно к братьям, пришел.
Народ мой тебя с восхищением слушал:
ты мыслью казахскую мысль разбудил,
ты русское сердце и русскую душу,
как двери в свой дом, перед нами раскрыл.
Нет равного Пушкину в мире поэта
и песен, которые так бы цвели,
как нету на свете прекраснее этой,
родившей нам Пушкина, русской земли.
<1949>
Сегодня исполнилось мне тридцать шесть.
Не хочется мне в самохвальщики лезть,
но нашей Республики быть одногодком —
большая удача, немалая честь.
Не зря для меня эти годы прошли:
они не растаяли где-то вдали,
они раскрывались, подобно тюльпанам,
как дети большого семейства, росли.
Я сути своей биографии рад.
Пусть зрелые песни сегодня звучат —
всю жизнь вспоминая, их честно слагаю,
как бывший юнец и бывалый солдат.
В степи я родился, в степи подрастал,
в степи из ребенка мальчишкою стал —
на палке своей, оседлав ее лихо,
по пояс в цветах, словно всадник, скакал.
Я знал твою землю, раздольный мой край,
учился красотам твоим невзначай.
Но были совсем неизвестны мне в детстве
ни пламенный Пушкин, ни мудрый Абай.
Минувшее детство я вспомнить готов
как детство снегов и как детство цветов,—
ведь некому было дарить мне в ту пору
крылатых машин, заводных поездов.
А впрочем, мы вправе сказать без стыда:
их нашей стране не хватало тогда —
не много летало вверху самолетов,
не часто ходили внизу поезда.
В те годы лишений и классовых битв
был Павлик Морозов врагами убит.
Недаром, как мать, это детское имя
доныне страна с уваженьем хранит.
Мой край небогатый стал краем стальным,
бегут эшелоны один за другим.
Прими же, Республика, эту поэму,
как малую дань достиженьям твоим.