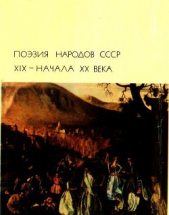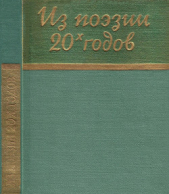439–441. МАЛЬТИЙСКИЕ ПЕСНИ
Однажды, в городском саду,
Над южной славною рекою,
В каком-то сладостном чаду
Бродил я медленной стопою.
Не грезы светлые во мне
Или надежды колдовали;
Нет! Был я счастлив, как во сне,
Скорей отсутствием печали.
Я только смутно сознавал
С невыразимою отрадой,
Что томно сад благоухал,
Что скучной жизни за оградой
Тогда я не принадлежал.
И так, бог весть о чем мечтая,
Почти невольно сознавая,
Как чуден был июньский день,
Бродил я медленной стопою,
Где легкая висела тень
Зеленоватой полумглою.
Всё в гору, бледною змеею,
Вились меж маленьких лугов
Дорожек серые спирали;
Высоко надо мной дерев
Все листья весело шуршали,
Как будто гордые собой,
Что жгучий ветер, пыль и зной
Еще доселе не измяли
Их шелковистую красу;
А солнце в светлую росу,
Казалося, преобразило
Потоки золотых лучей:
Оно, могучее светило,
Сквозь мягкую игру теней
Теперь лишь яркими кругами
Блестело на песке местами,
Покорно зыбкости ветвей…
Красавец месяц! Гордость года!
Июнь! Июнь! Твоей порой.
Во дни меж летом и весной,
О, как, обласкана тобой,
Ликует радостно природа!
Так новобрачная, полна
Стыдливости и сладострастья,—
Уже не дева, чуть жена,—
Трепещет на зените счастья.
Но из лучистой тьмы дерев —
Где я, как в милом царстве снов,
Забылся, тишью упоенный,—
Дорога вывела меня,
И, облитый сияньем дня,
Я тут очнулся, удивленный,
Что до венца горы дошел.
Налево липы отцветали,
А там — сторожка, частокол
И луг, где босяки дремали;
Направо, голый и крутой,
Во всю длину горы высокой
Желтел обрыв; внизу, далёко,
Тянулись вербы бахромой;
За ними — лишь простор широкий
Реки, и степи, и лесов,
Да синева без облаков.
Безбрежность дали, русской дали,
О, как ты странно хороша!
Тебя, светлее светлой стали,
Однообразнее печали,
Как любит русская душа.
У волн блестящих океанов
Иль на горах, где средь туманов
Мир еле виден и мольбе
Доступней, мнится, царь творенья,—
В порывах страстного томленья
Она тоскует по тебе,
О даль родимых кругозоров,
Где нет преград для жадных взоров,
Где ширь небес и ширь полей
В одной сливаются лазури,
Где место есть для всех лучей
И есть раздолье всякой буре!
Залюбовался я, — но вдруг
Заметил, что со мною рядом
Стоит солдат и тусклым взглядом
Глядит с унынием вокруг.
Как все армейские солдаты,
Он был нерослый, мешковатый,
С тупой усталостью в чертах,
В мундире грязном, в сапогах
Истоптанных… да, слава богу,
Его ли мне изображать?
Кому солдатика не знать!
На месте постояв немного,
Он отошел, но снова стал
И, будто он кого-то ждал,
Взглянул пытливо в даль дороги —
Там лишь рой бабочек белел,—
Вернулся он, вновь поглядел
И у обрыва тихо сел,
Над самым краем свесив ноги.
Я испугался за него.
«В уме ли он? Иль отчего
Своею жизнью так играет?
Ужели надоело жить?
Иль просто он меня желает
Своей отвагой удивить…
Нет, — то безумство, не отвага!
Там удалец бы оробел».
А у гигантского оврага
Невозмутимо он сидел,
Как будто занят созерцаньем
Тревожных волн большой реки,
Под солнцем брезжущих мерцаньем,
Которым искрятся штыки.
Ужаснейшей боясь кручины,
Его предупреждать я стал,
Что с глыбами той ломкой глины
Возможен каждый миг обвал.
Солдатик голову лениво
На оклик мой уж повернул,
Как вдруг вскочил, рукой махнул
И зашагал неторопливо
К дороге, где под сенью лип
Ему навстречу, очевидно,
Шла женщина: известный тип
Кухарки толстой, безобидной, —
Солдатский грузный идеал!..
Он подошел, фуражку снял,
Заговорил… Немного стыдно
Ей стало; круглая щека
Покрылась краскою густою,
И шалью нагло-голубою
Играла красная рука…
С какой-то нежною отрадой
Я долго им вослед смотрел;
И в скучной жизни за оградой
О них забыть я не сумел!
«Ужели всё? — читатель спросит.—
Идея где? И где рассказ?
Ужели тут поэт всё бросит —
Кухарку, воина и нас?
Знать, просто не по силам сказка!
Его измучился Пегас;
Как в вешней слякоти савраска,
В житейской прозе он увяз!
И хорошо еще, быть может:
Ведь повесть… странная была!
Никто конца ей не положит
Без лишних сцен а́ la Zola… [126]
А уж такие наблюдения
Прискучили и без стихов!
И надо ль было песнопенья,
Чтоб эту описать любовь?
Любовь?.. О нет! Такого слова
Достоин ли простой разврат?
Да мог ли жар огня святого
Тот грубый чувствовать солдат?»
На это, строгий мой читатель,
Мне очень трудно дать ответ!
Но даже в словарях «поэт»
Отнюдь не значит лишь «мечтатель».
Нельзя ж Икаром нам порхать
Всегда, всегда над облаками;
Полет опасен меж звездами,
И крылья — как легко сломать!
Я сам жалею, без сомненья,
Что в светозарном сновиденьи
Глаза духовные мои
На берегу реки той славной,
Увы! не видели ладьи
Олега, мощного Ильи
Иль милой тени Ярославны.
Тогда отдался б я вполне
Восторгам чистым вдохновенья,
И вы авось внимали б мне
С крупицей малой снисхожденья!
Но я ль, скажите, виноват,
Что и другое ведь бывает?
В общественном саду солдат
С своей зазнобою гуляет,
И рады все кричать: разврат!
Зачем?
В дыму пороховом,
Когда, средь молнии картечи,
Гремит атаки славный гром,
В ужасном упоеньи сечи,
О, поэтическим лицом
Солдат нам кажется победный!
Но тут, когда мужик он бедный,
Мужик, и только! — уж не то.
Для образованного стада
Таится в горестях отрада,
И песен про народ не надо,
Когда не мучится никто!
Давно не смеет быть счастливым
Никто из русских бедняков.
Любовь в народе терпеливом
Должна у хладных очагов
Томиться горем молчаливым,
Смеяться может лишь порок.
Умильно смотрим мы на счастье
Того, кого ласкает рок,
Но голь, чтоб вызвать в нас участье,
Должна без отдыха страдать!
Но, впрочем, будет мне болтать..
В картинах нет нравоученья,
Как нет его в цветах полей.
Без всяких, признаюсь, идей,
Былые помня впечатленья,
Я лишь картинку набросал…
И, вместо красок, рифмы взял.
<1890>