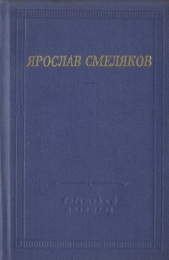329–335. ФРАГМЕНТЫ ИЗ ВТОРОЙ ЧАСТИ ПОВЕСТИ В СТИХАХ «СТРОГАЯ ЛЮБОВЬ»
В час предутренний под Москвой
на заставе заиндевелой
двери маленькой проходной
открываются то и дело.
И спешат наперегонки
через тот теремок дощатый
строголицые пареньки,
озабоченные девчата.
Нас набатный ночной сигнал
не будил на барачной койке,
не бежали мы на аврал
на какой-нибудь громкой стройке.
На гиганты эпохи той
не везли в сундучках пожитки,
не бетонили Днепрострой,
не закладывали Магнитку.
Но тогда уже до конца
мы, подростки и малолетки,
без остатка свои сердца
первой отдали пятилетке.
И, об этом узнав, она,
не раздумывая нимало,
полудетские имена
в книгу кадров своих вписала.
Так попали в цеха труда
и к станкам индустрии встали
фабзайчата — нас так тогда
с доброй грубостью называли…
Спиралью крутясь постоянной,
ступеньки сбегают в буфет.
Кисель пламенеет в стаканах,
и в мисках блестит винегрет.
Мы лучшего вовсе не ищем:
как время велит молодым,
мы нашу нехитрую пищу
с веселою страстью едим.
За столиком шумно и тесно,
и хлопает ветер дверьми.
Ты только холодным и пресным,
буфетчица, нас не корми.
Еда, исходящая паром,
у нашего брата в чести.
Давай ее, с пылу и с жару,
покруче соли и сласти.
…Сверкают глаза отовсюду,
звенит и стучит тяжело
луженая наша посуда,
граненое наше стекло.
Под лампочкою стосвечовой
ни тени похожего нет
на тихий порядок столовой,
на сдержанный званый обед.
Не склонен народ к укоризне:
окончился чай — не беда.
Была ты под стать нашей жизни,
тогдашняя наша еда.
Наверно, поэтому властно
на много запомнились лет
кисель тот, отчаянно красный,
и красный, как флаг, винегрет.
Яшка, весь из костей и жил,
весь из принципов непреложных,
при бесстрастии внешнем, жил
увлекательно и тревожно.
Под тельняшкой его морской
сердце таяло и страдало.
Но, однако, любви такой Яшке
все-таки было мало.
Было мало ему давно
получать от нее, ревнуя,
после клуба или кино
торопливые поцелуи.
Непреклонен, мятежен, смел,
недовольные брови хмуря,
он от этой любви хотел
фейерверка, прибоя, бури.
Но она вопреки весне
и всему, что ему мечталось,
от свиданий наедине
нерешительно уклонялась.
И по улице вечер весь
безмятежно шагала рядом,
словно больше того, что есть,
ничего им теперь не надо.
Не умея пассивным быть,
он отыскивал всё решенья:
как упрочить и укрепить
эти новые отношенья.
И нашел как раз старичка,
что художничал по старинке,
в жажде стопки и табачка
околачиваясь на рынке.
(Жизнь свою доживал упрямо
тот гонимый судьбой талант,
в чем свидетельствовали панама
и закапанный пивом бант.)
И ловец одиноких душ,
приступая к работе с толком,
у оконца поставил тушь
и привычно связал иголки.
И, усердствуя как умел,
наколол на его запястье
буквы верности «Я» и «Л» —
обоюдные знаки счастья.
По решению двух сторон
без дискуссий и проволочки
вензель этот был заключен
в сердцевидную оболочку.
Старичок, обнаружив прыть,
не угасшую от запоя,
сердце сразу хотел пронзить
символическою стрелою.
Но, традициям вопреки,
Яшка грубо его заставил
боевые скрестить клинки
синеватого блеска стали.
И, однако же, те года
выражал бы рисунок мало,
если б маленькая звезда
на верху его не мерцала.
Отразилось как раз на ней,
усложнило ее созданье
столкновение двух идей,
двух характеров состязанье.
Из штрихов, как из облаков,
возникали, враждуя, части
беспартийной звезды волхвов
и звезды пролетарской власти.
В результате дня через два,
помещенная очень ловко,
из-под черного рукава
чуть виднелась татуировка.
Вместе с Лизкой идя в кино,
он поглядывал то и дело
на таинственное пятно,
что на коже его синело.
Но, любима и влюблена,
освещенная солнцем алым,
от неопытности она
тех усилий не замечала…