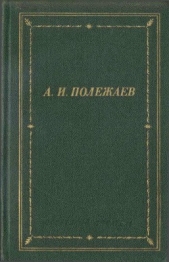«Черт возьми меня, не стану
Без ума я больше пить;
Зарекаюсь, перестану
Колобродить и шалить!
Что за глупое веселье
Напиваться как свинья,
Это скверное похмелье
Мучит дьявольски меня!» —
Так на лавочке бульвара
Вечерком я рассуждал
И от пьяного угара
Себя ветром освежал.
Ясно-тихая погода
Всех манила погулять,
И различного народа
Стало пропасть набредать.
Углубившись в размышленья,
Я задумчиво сидел
И порой для развлеченья
На шатавшихся смотрел.
Званья всякого особы
Проходили предо мной:
Волокиты гузно…,
И козлиных рой,
И уклюжистые бары,
И поджарые, как стень,
И армяне, и бухары,
И с супружницей олень,
И с красоткою счастливец,
И с лорнетом молодец,
И изнеженный спесивец,
И стыдливый, и наглец,
И блондинка, и брюнетка,
И горбатый, и косой,
И купчиха, и кокетка,
И разряженный портной,
И …… старушка,
И бонтонная мамзель.
Тот верти́тся, как вертушка,
Тот жужжит, как будто шмель,
Тот красуется усами,
Тот — малиновым плащом,
Тот — с чешуйкою штанами,
Тот — кургузым сюртуком,
Та — парижским рединготом,
Та — платочком на плечах,
Та — каштановым капотом,
Та — серьгами на ушах.
Этот с видом пресыщенья,
Эта нехотя глядит,
Тот с улыбкой наслажденья,
Та гримасой всех дарит,
Там идет один печально,
Здесь хохочет во всю мочь,
Там глаза дерет нахально,
Здесь другой воротит прочь.
Я Лафатера не знаю
И не Галев ученик,
Но в минуту отгадаю
Человека напрямик.
Как кто смотрит, как шагает,
Можно лица различать,
Мало ль, много ль кто смекает,
На лице ума печать.
Вот в пример возьмем мы немца,
Всей Германии красу,
Вся изнанка его сердца
На большом его носу.
Долговязый, тонконогой,
Он идет еще с другим —
Нам узнать его недолго —
Лишь последуем за ним.
Пусть он слова два-три скажет,
И он — мой, хоть об заклад;
Чем набит он — всё докажет,
Вот они и говорят:
«Ja, ich werde ihnen sagen!
Dort ist Bier — das beste Bier!
O, mein Gott! Wir werden fragen
Zwei Bouteilen. O, Bier, Bier!» [118]
Чу, про пиво — и довольно:
Чистый коренной немчин.
И подумал я невольно:
«Что я тут сижу один?
Марш за ними вслед бульваром!»
Средь Никитских вдруг ворот
Повернувши, немцы с жаром —
В «кенигсбергский» славный вход.
Вот на лестнице дерутся,
Я скорей — они бегут,
Оступаются, трясутся
Дверь в одышке сильной прут.
«Знать, давно друзья не пили»,—
Сам с собой я рассуждал.
Молодцы меж тем ввалили.
«Hier ist Bier!» [119] — один сказал.
В залу длинную, большую
Я за ними полетел
И картину пресмешную,
О друзья мои, узрел.
Для чего, зачем нарочно
Нам в Германию скакать —
Мы Германию заочно
Можем в герберге узнать.
Я ли в гербергах различных
И трактирах не бывал,
Но нигде таких отличных
Еще рожей не видал.
Англичане, и французы,
И швернуторов полки,
Ножки тонкие и пузы,
Карлы, спички, толстяки,
И отвислые брылища,
И гляделки на заказ,
Полосатые носища
И уроды напоказ,
Хромоногие, косые,
С костылями и в очках,
Красно-рыжие, седые,
И с плешьми, и в париках
Там и сям везде шатались;
Биру клюкнув чересчур,
Бормотали и слонялись,
Как в курятнике тьма кур.
Тот кричит охриплым басом:
«Кусьма! Дай путилька пив!»,
А другой сидит над квасом,
Губы в слюнях распустив;
Тот, как клюква раскрасневшись,
«Lieber Augustin» [120] поет,
Тот, салакушей объевшись,
И рыгает, и блюет!
Муж багряный, сановитый
По прозванию Кузьма —
Прездоровый, пресердитый,
Но любимый там весьма,
Руки на спину сложивши,
Вдоль по комнате гулял
И порою забурливших
Вниз по лестнице швырял.
Никогда еще злодея
Не видали немцы злей.
Все, руки его робея,
Говорили: «Кузьма, пей!»
Как столяр лихой щепами,
Он немчинами шутил
И не двух уж вверх ногами
В этом герберге спустил.
Два иль три стакана пива
Я Кузьме дал осушить,
И Кузьма мне преучтиво
Стал тихонько говорить:
«Да-с, когда вам знать угодно,
Я пять лет уж здесь служу
И пять лет, сударь, охотно
На швернуторов гляжу.
Ах! Довольно с шеи сплыло,
Не с большим десятков с пять,
Можно б в это время было
Мне народу поузнать.
Я всю жизнь в трактирах маюсь,
Посмотрел того-сего,
Но все герберги, признаюсь,
Перед этим — ничего.
Один черт смешнее немца,—
Уморительный народ!
Смех от искреннего сердца
Тут невольно заберет.
Например: зайдите в место,
Где все русские сидят,—
Как из воску или теста,
Словно куколки торчат,
А особенно купчищи,
Вот отродие козлов!
Только гладят бородищи,
И не выбьешь пары слов;
Так всё скучно, однобразно,
Попивают да глядят.
А коль сброд сидит приказный,
Тут о кляузах твердят.
А уж в ерниках-студентах
Никогда и не был толк:
Тот в латинских документах,
Этот — в греческих знаток;
Черт их знает, — ходят, бродят,
Ни на каплю нет пути,
Вздор, трембрень такой городят.
Дрянь всё, — господи прости!
Ну, а здесь-το то ли дело,—
Здесь небось — уж не заснешь.
И ручаюсь, сударь, смело:
Здесь, что хочешь, то найдешь,
Что душа ни пожелает —
Всех сословий здесь народ.
Кто колбасников не знает —
Рубль не даром здесь швырнет:
Ведь Москва куда безмерна,
А со всех ее концов
Каждый вечер непременно
Тьма напрет к нам этих псов».
— «Ну, скажи же мне, мой милый,—
Я Кузьму перехватил,—
Кто сей немец есть унылый?
Что он, мало пива пил?»
Он на немца искосился
И с усмешкой отвечал:
«Он бы в пояс поклонился,
Кто бы квасу ему дал».
— «Полно врать, — да ведь ты пиво,
А не квас им подаешь?»
— «Точно так! Вам это диво,
А поверьте, что не ложь!
Коль судить нам по доходу,
Не по множеству персон,
То две части сего сброду
Хоть гони по шее вон».
— «Как?» — вскричал я в изумленье.
«Так, больша́я часть гостей,
Если молвить с позволенья,—
Без порток и без грошей,
Без алтына за душою,
Как собаки без двора,
Только-только не с сумою
Набегут они сюда;
Нет ни места, нет ни крова,
Нет ни выпить, ни пожрать —
В „Кенигсберге“ же готово
То и се им, и поспать!»
— «Спать и пить и есть без денег,
Что ты врешь, нельзя никак!»
— «Эх, сударь! Народ умненек.
Коль не эдак, так вот так.
Например, сударь, заметит
Он, что пиво у вас есть,—
Так и бьет, сударь, и метит,
Чтоб знакомство с вами свесть.
Ну, вы с ним заговорите,
А он ближе сядет к вам!
А потом опорожните
И бутылку пополам.
Разумеется, не стоит
Пятачок вам ничего,
Да немчин-то, сударь, строит
Вам все куры для того.
Выпив пива, ваша милость
Пожелает закусить,
А закуску с ним учтивость
Не велит ли разделить?
Нет, сударь, Кузьма Исаич
Знает всех наперечет:
Это вот Иван Иваныч,
Что вприхлебку пиво пьет,
Он таковского разряду,
Про который я сказал:
Может, денег два дни сряду
На бутылку собирал;
Он не промах: что как нищий
Христа ради наберет,
То не тратит он для пищи,
А к нам в герберг и несет.
Видите, сударь, направо
От него сидит старик,
Брюзглый, длинный, худощавый,
Он такой же вот голик;
Осип Осипыч прозванье
По-российски ему есть;
Препустяшное созданье —
Ходит редьку сюда есть.
Черт их знает, как народы
Эти чудные живут:
В слякоть, вьюгу, непогоды —
Ведь как дома — тут как тут!
Уж куда мне не по сердцу,
Не отвадишь дряни прочь:
Спросит лучку, квасу, перцу
Да и спит тут день и ночь
В незаплаченном ночлеге.
От утра часов с пяти
Сего немца в „Кенигсберге“
Можно за полночь найти.
Как покойник Карл Иваныч
И придет меня просить:
„Как бы, брат Кузьма Исаич,
С хренком хлебца закусить?“
А какой тот на прокуды
И на лясы был мастак,
Как шишимора все виды
Принимал и так, и сяк!»
— «Ну, а это что за штука?» —
Я Исаичу сказал
И из жира и из тука
На тюленя показал.
«А, пузан коротконогой,
Это — Гофман», — он шепнул.
(Тут студент один немного
Его в рыло не махнул.)
«Он преважную фигуру
Представляет из себя,
А не видит того сдуру,
Что он — пошлая свинья.
Он ужасного барона
Роль желает разыграть,
А уж доброго трезвона
Молодцу не миновать!
Вот Арман, француз почтенный;
Должно правду говорить:
Каждый вечер непременно
Ходит пиво сюда пить.
Толстопузый же детина,
Что с ним рядом, — его друг,
Тоже добрый мужичина —
Их всегда увидишь двух.
А вот этот красноносый
Старичишка в фризяке,
Весь седой, длинноволосый,
Что прижался в уголке,
Да его, сударь, все черти
Одного не перепьют.
Мудрено, как он до смерти
Не запьется, сидя тут.
Имени его не знает
В нашем герберге никто,
Только пива осушает
Каждый вечер он — ведро.
Ну, поди же вот, по виду
Человека угадай,
Сам ведь с вошь, проклятый, с гниду;
Пить же — только подавай.
Посмотрите вот, как гордо
Этот ходит и глядит.
Тьфу ты пропасть, что за морда,
Как он важно говорит;
Как философ ведь по взгляду
Иль какой натуралист,
Поглядишь на шельму сзаду —
Ан там сажа — трубочист.
Оно правда, задирает
Вон и Миллер красный нос,
Тоже на алтын смекает,
Да с крестишком скверный пес.
Если б немцам дать отвагу
И ни в чем им не мешать,
Эту пьяную ватагу
Невозможно б и унять.
Вот Дюпьеня для примера
Нашей речи мы возьмем,
Да, другого изувера,
Верно, хуже не найдем.
Он такая забияка,
Что и боже упаси!
Как пойдет у черта драка,
Так святых вон выноси!
Так отпотчует прекрасно,
Что забудешь и своих,
А крикун какой ужасный,
Как сердит, буянлив, лих!
О!.. Бывало загуляет
С молодцом Бланшардом он,
Да вот этот к ним пристанет,
Честный парубок Клоссон,
Так, поверите ль, ей-богу,
Настоящий ведь содом:
Заведут возню, тревогу,
Герберг вверх поставят дном.
Шум, ругаются, дерутся —
Так бутылки и летят;
Разнаряжутся, напьются,
Срам, сударь, такой разврат!
Ну, уж в немцах и французах
Ни в едином нет пути,
В этих скверных голопузах
Много толку не найти —
В них всегда одно и то же!
Но и в русских капли нет,
Ни на что уж не похоже!
К нам ходил один студент —
Ныне видно его редко,—
Слышно, в деньгах недочет.
А куда с грошами метко
Этот парень козырнет,—
Так беда, сударь, и только,
Прегорчайший запивох!
А уж шуму-то с ним сколько,
Сколько браней, суматох!
Был бы малый он изрядный,
Да вот пьет-то без ума,
А уж с пьяным с ним накладно,
Признаюсь, сударь, весьма!
Вот как дьявол заберется
Ему пьяному в башку,
Забуянит, задерется,
И пошла потеха — ну!
Ведь имел бы хотя силу,
Так ни слова бы о том,
А то так-таки вот к рылу
И дерется кулаком.
Так и смотрит, так и ищет,
Как бы драку с кем начать,
Так и шнырит, так и рыщет,
Чтоб кого-то обругать.
Ведь не всякого ж по носу
Без отплаты щелканет,
Даст иной такого чесу,
Что и в порты
Я, сказать вам правду-матку,
Хоть какого так уйму,
Наизлейшую я схватку
В две минуты разойму.
А ведь он, сударь, с задору
И меня хватил не раз,
Ну ударь в лихую пору —
Я б ушиб его как раз.
Все одной студенты масти,
Все буяны, наглецы,
По большей всё, сударь, части
Зюзи, плуты, сорванцы.
С ним ходил еще Коврайский,—
То-то, сударь, голова!
Уж прямой цветочек майский,
Всё злодею трынь-трава,
Как нарежется, расправит
На затылке он хохол,
Всех бежать домой заставит —
Так отчаян он и зол.
Уж небось не попадайся
На глаза ему никто:
Без оглядки убирайся,
Изувечит ни за что.
Также Пузин был детина,—
Ныне нет таких у нас,
То-то бодрый мужичина,
То-то стелька напоказ:
Облюется ………,
Навоняет, ……..
Ходит, ходит, повали́тся,
Да под стулом и храпит.
Ну вот эдакой, так смело
Может драться напролом,
Малый взрачный да дебелый,
Как одернет кулаком,
Так невольно понагнешься
Да коровой заревешь,
А под грех и не свернешься —
И аминь — что раз умрешь.
Нет, сударь, избави боже,
Черт гостей таких возьми;
Ни на что ведь не похоже,
Что тут делали они.
Уж на что задорней немца,
А вот эдакий народ
Под хмельком да с злого сердца
Всех их в нужники забьет.
Немец как ни горячится,
А как шельму постращал,
Мигом, скверный, усмирится,—
Как ни в чем и не бывал.
А студенты-забулдыги —
Хоть теши на них ты клин,
Пресердитые ерыги —
Толку нет ни на алтын.
Кулаки, скоты, засучат
Да и бродят по углам;
Тормошить кого — замучат,
Пьяницы — беда да срам!
Много и теперь народу
Наползает к нам чуть свет,
Но отчаянного сброду
Что-то нет уж<е>, как нет.
Как, бывало, англичане
Набегали чудаки,
То-то, сударь, басурмане,
То-то некресть на пинки!
Как бормочут ведь забавно,
Всё с присвистом, да шипят,
А щелкаются как славно,
Если в пьянстве забурлят!
Нам, служителям, потеха —
Помирай лишь да смотри,
А у них так не до смеха,
Так и скачут фонари.
Кто под бок кого тилиснет,
Кто подъедет под брыле,
Кто в затылок сзади свистнет,
Кто бутылкой по скуле!
Крик, возня, содом, бывало,
Хоть пали, так не слыхать!
А теперь другое стало,
Только немцам и ворчать…»
— «Ну, а там что за собранье?» —
Я рассказчика прервал.
«Там бильярдошно игранье,—
Он с почтеньем мне сказал.—
Если будет вам угодно,
Я туда вас провожу!»
— «Хорошо, мой друг, охотно,
Что там есть, я погляжу».
Быстрым любопытным взглядом
Вкруг себя я посмотрел
И три комнаты там рядом
С биллиардами узрел.
Изогнившие диваны
В них стояли по стенам,
И различные болваны
Заседали там и сям.
С холуем, мертвецки пьяный,
Драл в тамбовскую дьячок;
Кии, мазики, стаканы
Все стучали: чок и чок!
«Это пьяница презлая,—
Проводник мне говорит.—
Он и службу отправляя
На ногах едва стоит.
Дьякон, поп сего прихода —
Все канальи без пути;
Хуже этого народа
Невозможно и найти.
Бог прости мне согрешенье —
Я мохнатых не люблю
И кутейно порожденье
Ненавижу, не терплю:
Плут на плуте, шельмы, воры;
Только деньги любят брать,
А уж этому без ссоры
От бильярда не отстать.
Презавидное созданье,
Преехидный человек!
Он хорошего деянья
Одного не сделал в век».
— «Ну, а это что за хари?» —
О сидящих я спросил.
«О, прежалостные твари,
Дурачье, — он возразил.—
Черт их знает, что за сладость
На играющих глядеть,
Как не скучно, что за радость
Сычугами здесь сидеть?
Смотрят фили да мигают,
Как шальные столбняки,
Дремлют, щурятся, моргают,
Рохли, сударь, дураки,
Полоумные тетери!»
— «О, Кузьма, да ты сердит!
Ну, а это что за двери?
Кто там в комнате шумит?»
— «Прошумят, сударь, до завтра.
Это хлещутся в гусек;
Пьяный фершал из театра —
Самый лучший тут игрок!»
— «Пива, пива дай, Тимошка!» —
Хриплый голос закричал;
Я взглянул туда немножко
И Никандра увидал.
В сальных роздранных фрачишках,
В епанчах из фризяка,
В перетертых сюртучишках
Вкруг бутылок и гуська,
Жался, мялся и толпился
Цвет шишимор площадны́х;
Гул в каморке разносился
Криков радости лихих.
Длинной черною шинелью
Немец скутанный до пят
Лишь один сему веселью,
Я заметил, не был рад.
Хладнокровно и сурово
Он на публику смотрел:
Не промолвил ни полслова,
С думой мрачною сидел.
А Кузьма бесперестанно,
Как лукавый, мне шептал:
«Это, сударь, самый странный
И смешной оригинал.
Он всегда такой угрюмый,
Как вы видите сейчас,
И безмолвной своей думы
Не кидал еще не раз;
Полагать, наверно, должно,
Что не любит он людей,
А не то подумать можно,
Что он злобный чародей!
Вы смеетесь — как хотите,
Только как он ни придет,
Вот вы сами поглядите,
Вечно книжку принесет,
Сядет в угол и читает,
И никто не подходи,
А об чем — никто не знает,
Как тут хочешь и суди!
Десять лет проклятый носит
Платье с головы до ног!
Десять лет, сударь, не сбросит
Голенищей от сапог».
Тут из этой половины
Снова в залу я пошел,
Но какие там картины
Презабавные нашел!
Те два немца, что со мною
В «Кенигсберг» с бульвара шли,
Нализавшись, меж собою
Страшный бой произвели;
Потасовка чубуками
Шла в ужаснейшем пылу,
И с разбитыми брылями
Был один уж на полу.
«Ах, поганые собаки! —
Мой Исаич закричал.—
Ни минуты нет без драки,
То и дело шум и свал!»
Я довольно веселился,
Как он начал их тузить,
Отдал деньги, распростился
И пошел опять бродить.
«Ныне, сударь, день субботний,—
Мне кричал Исаич вслед,—
В воскресенье так до сотни
Наберется их чуть свет.
Милости прошу, зайдите
В шесть часов к нам вечерком,
Вы не скучно просидите,—
Я ручаюсь, сударь, в том».
В «кенигсбергские» окошки
Кинув взор, пошел я прочь,
И, что видел там, до крошки
Мне приснилось в эту ночь.