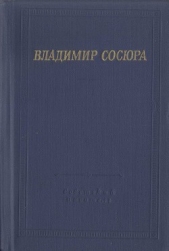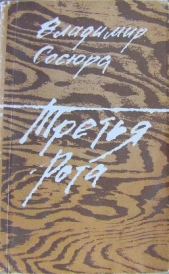Несутся тучи в ту сторонку,
где просыпается Донбасс,
где я заводскую девчонку
в минувшем видел много раз.
Там над поселком — месяц острый,
под тучами — платочек пестрый
и две звезды под тем платком…
Всё это кажется мне сном
прекрасным и неповторимым…
Под заводским тяжелым дымом
ворота черные видны,
они от копоти черны,
клубятся дымные волокна…
Пылают цеховые окна,
железо жалуется там,
ползет «кукушка» по путям
и голосом кричит высоким,
теряясь в дымной поволоке.
Там пахнет углем, и цветенье
в садах, прогорклое чуть-чуть;
над головою — Млечный Путь
зовет, сверкая в отдаленье,
всё осмотреть и всё познать,
чтоб самому — звездою стать
на ночи бархатном покрове…
О, пылкость юношеской крови!
Я вспоминаю радость ту,
ночное небо и аллею,
звучала музыка в саду,
где познакомился я с нею,
где имя я узнал ее…
Воспоминание мое
и ныне в сердце словно рана,
как сладко имя то — Оксана…
Мне всё мерещится тот дым,
над сонным озером туманы,
и жжет меня огнем своим
щека румяная Оксаны…
Катилась песня, высока,
взлетала радужной дугою…
Завод. За вербами река,
и шум бондарни за рекою.
Там луч солому золотил,
мне не забыть тех лет веселых…
Там по кислицу я ходил,
пил молоко в окрестных селах
в те дни, когда в степные дали
мы банды гетманские гнали,
когда с мешками мужики
явились к нам из-за реки
и в волнах Леты утонули…
Штыки блестели, пели пули
там, где мы в детстве средь кустов
с дружком ловили воробьев.
Давно, давно… Минули дни…
И только памяти огни,
что вдруг пронзают, словно птицы,
вечерний небосвод столицы,
несут на крыльях голубых
тот смех и плач из дней былых.
Войны кровавая заря
пылала в небе, толпы плыли
в пыли и по селу носили
портрет кровавого царя.
Врагу — проклятья и угрозы,
гнев разгорался всё сильней…
А на платформе — стон и слезы,
отчаяние матерей…
Покрылись лица тенью бледной,
когда звонок поплыл последний,
трехцветный флаг, поникший вкось,
прощально крикнул паровоз
и тихо отошли вагоны
от помрачневшего перрона…
И, различаемый с трудом,
гремел орудий дальний гром…
А я, влюблен в девичьи очи,
пел про украинские ночи,
под струн гитарный перебор,
про девичий печальный взор,
про шелест вкрадчивый акаций…
И было мне тогда — семнадцать.
Я не вернусь уже назад…
В вечернем небе туча тает…
Блестит в росе цветущий сад,
и вдалеке гармонь рыдает,
как будто бедная дивчина
зовет неверного дружка…
В рыданье так сильна тоска,
что плакать хочешь беспричинно…
Блестит в росе вечерний сад,
когда-то были мы так юны…
Ушли на пушек рев чугунный,
немногие пришли назад.
Дни мчались — бешеные кони…
И часто видел на перроне
я бледных, словно смерть, солдат.
Везли их в тыл, чужих, не наших,
оттуда, где огонь пылал.
Зачем же сердце надрывал
их суховатый, острый кашель?..
Зачем смертельный кашель тот
гасил войны пожар победный,
тряслась спина, кривился рот?
Казалось, брат тянулся бедный
ко мне и руки простирал
сквозь дым кровавый и металл…
Тряслись под тяжестью дороги,
везли орудия «туда»,
«оттуда» шли санпоезда,
поток безруких и безногих…
Где блеск, и выправка, и лоск?
Желты их лица, словно воск,
над ними, белые, как птицы,
склонялись сестры, фельдшерицы…
А на военных поездах
писали мелом на дверях,
на стенах (раненых проклятья
не тронут пошлые сердца):
«Вперед, за нашу землю, братья,
в бой, до победного конца!»
Дул ветер, дождь осенний лил,
под ветром розы облетали,
когда я в шахту спущен был.
Чернее тьму найдешь едва ли.
Ее как будто создал маг,
все эти плоскости и грани,
воды подземное журчанье
и слабый свет сквозь душный мрак,
на стенах словно блеск слюды,
с углем вагончиков ряды,
и скрежет их, надрывней стона,
и свист протяжный коногона…
Я стал носить шахтерский чуб
и набекрень картуз дешевый,
во тьме ночной покорных губ
стал жадно пить огонь вишневый,
очей любимых взгляд ловить,
и матюгаться, и курить…
И в той дали, и в том просторе
мой потемневший видит взор,
как тьму расталкивают зори,
шумит трава донецких гор,
проходят с песнями девчата,
за ними — парни по пятам,
и клена темная громада
внимает звонким голосам…
Всё белым цветом заливала
луна, сияя колдовски,
и верба ветви наклоняла
над синим зеркалом реки.
Гудят заводы, как жуки,
мосты дрожат под поездами,
что пролетают мимо нас,
как бы навек прощаясь с нами…
Вздымает к небу дым Донбасс,
и трубы, словно привиденья,
встают, и очерк их мне мил,
таких знакомых в отдаленье…
Я там работал и любил.
Я помню счастье золотое,
тех не вернуть отцветших дней…
Туда я вновь лечу душою
на крыльях памяти моей.
Там жизнь спокойна и ровна,
гудят гудки, на труд сзывая…
А здесь, на западе, война
гремит, пылает мировая.
И равнодушный кто-то счет
ведет пропавшим и убитым…
И нет конца слезам, обидам,
и льется кровь, и гнев растет.
Нет больше песен у пехоты,
в молчанье движется она…
И лишь гитарная струна
всплакнет под ночь средь непогоды…
Ожесточение в сердцах,
дороговизна в городах
и нищета в крестьянских хатах,
тьма в окнах их подслеповатых,
и детворы веселый смех
уж не летит из окон тех.
Гангренный бред, дурные сны
в грязи, мученьях и коросте,
и перемалывала кости,
не видя в том своей вины,
машина страшная войны.
Казались сном те дни, когда
любили мы ходить гурьбою
под разомлевшею зарею
встречать ночные поезда.
В дорогу семечки тогда
девчата брали; шутки, пенье,
внимал им тополь в отдаленье,
и вечер ясен и лучист,
и кучеряв был гармонист…
Затихла станция, темна,
в холодных залах тишина,
одни жандармы, как вороны,
выходят важно на перроны,
да иногда из мглы навзрыд
военный поезд прокричит.
Гроза всё ближе подступала,
и сил сносить беду не стало…
Когда ж забыли бедам счет,
пришел семнадцатый тот год,
пришел счастливою грозою…
Но трубы так же звали к бою,
струились слезы матерей…
Туда, где дышит даль железом,
всё так же гнали сыновей,
гремели выстрелы за лесом,
и неба влажные края
сверкали — грозная картина.
Тогда впервые понял я,
что есть на свете Украина,
край грозных битв и вечных гроз,
что больше я не малоросс.
Пришла желанная пора
борьбы великой до победы
за то, о чем мечтали деды,
на что надеялись вчера.
Пришла, прекрасна, долгожданна,
и ею — всё озарено.
Тогда узнал я, что Оксана
с большевиками — заодно.
Но был тогда я с толку сбит
шовинистическим угаром,
и до сих пор душа болит,
как много сил потратил даром,
что ж, перед веком повинись…
Дороги наши разошлись:
она — налево, я — направо.
Была жестока и кровава
судьба нелегкая моя
средь дней суровых и крылатых,
и больно мне, что не был я
на тех октябрьских баррикадах,
и горько мне, что был мой путь
непрям, извилист и запутан,
что молодости не вернуть,
не прояснить той мглистой смуты.
И не видна еще развязка
была в те дни… Дрожит перо…
И заливает щеки краска,
как арестантское тавро.
Наш полк отправили под Киев,
туда, где шлях лежал Батыев,
где пела память о былом
в Софийском звоне золотом,
где княжескими именами
еще минувшее живет
и огражденные цепями
руины Золотых ворот
в немолчном городском прибое
напоминают нам былое.
Течет внизу старик Славута,
в веселье берегов закутан,
и на Крещатике в ночи
сверкают ярких ламп мечи.
Военный шум, зима, вокзал…
Тревога сердце захлестнула…
На нас своих орудий дула
наводит красный «Арсенал».
Томит дыхание беды,
мы стали строиться в ряды,
ударил колокол три раза,
мрачнея, ждали мы приказа.
Петлюра что-то прокричал,
куда-то показал рукою…
Над нами жесткою грозою
ударил орудийный залп…
Пошли на приступ, напрямик,
мы улицею голубою,
и ветер гайдамацкий шлык
всё дергал за моей спиною,
хотел как будто удержать
меня и злую нашу рать,
как будто вслед кричал: «Проклятый,
зачем ты в бой идешь на брата?..»
Мне не забыть тот страшный час,
мы каждый камень брали с бою.
Заря с укором и тоскою
смотрела нехотя на нас,
в крови лежали трупы тесно,
их вид был горестен и дик,
казалось: мы зашли в тупик,
и есть ли выход — неизвестно…
День был понурый и унылый,
неравны были наши силы,
и под напором нашим пал
залитый кровью «Арсенал».
Мы озирались, брови хмуря:
какое зло свершилось тут!
И я не знал, что скоро бури
меня, как щепку, понесут
по дну ущелий и оврагов,
сквозь дым и марево огня,
чтоб с лёту выбросить меня
на берег красных зорь и флагов.
Недолго Киев нашим был.
Нас Днепр, казалось, невзлюбил,
в снега глубокие закутан,
разгневался старик Славута
и закричал сквозь смерти свист:
«Я тоже нынче коммунист,
а вы погибнете, изгои!»
И мы не выдержали боя.
И красным стал от крови лед,
казалось, небо упадет,
так орудийный гром был страшен,
залп по рядам пришелся нашим…
Кто как, ползком, бегом, верхом,
ушли рассеянной оравой…
В дали туманной за холмом
остался Киев златоглавый.
Обречены на грязь и мрак,
знать, не про нас его панели.
И слезы смахивал казак
тяжелым рукавом шинели.
Сквозь снег и ветер, день и ночь
отчизна нас погнала прочь.
И вещие нам были знаки,
в пути нам выли вслед собаки,
и кто-то на смех иль печаль
тревожил выстрелами даль.
Куда-то шли, за строем строй,
полк за полком, не зная цели,
из окон сумрачно смотрели
на флаг наш желто-голубой.
Качали бабы головами,
за тыном кто-то, хоронясь,
нас крыл последними словами;
дорожную месили грязь…
Под шум шагов, под окрик громкий
я молча вспоминал завод
и над мерцаньем тихих вод
взор ясный заводской девчонки.
Я ночью в нем тонул, бездонном,
с ним просыпался поутру.
Я был пушинкой на ветру
широком, революционном.
И, в непроглядной темноте
припомнив вдруг свою подружку,
я думал: что, как очи те
уже берут меня на мушку
и я, споткнувшись на бегу,
лежать останусь на снегу?!
Гудели ветры, неба мгла
казалась беспросветно-черной,
когда к нам армия Эйхгорна
на помощь с запада пришла.
Гудели ветры, в поздний час
сползала с неба позолота,
и шагом кованым пехота
гремела молча мимо нас.
Ряды терялись в мутной дали,
под ветром шли и шли полки.
«Завоеватели, друзья ли?» —
понять пытались казаки.
А им в ответ — из тьмы ночной
за рядом ряд, за строем строй,
и ветер, жалуясь открыто,
шумел знаменами сердито.
Топча траву родной земли,
и чернозем ее, и глину,
с полками кайзера прошли,
как смерч, мы через Украину.
Очнулся я, когда, назад
взглянув, увидел, как лежат
с простреленными головами
те, кто был в плен захвачен нами;
когда рассеялся туман,
увидел гневными глазами,
как забивают шомполами
за землю панскую селян.
И понял я, что только с теми,
кто защищать крестьян готов,
мне по пути, что давит бремя
неправых дел, неправых слов,
я осознал — настало время, —
что правда — у большевиков.
И верил я: придет минута,
когда я кровью смыть смогу
свою вину и штык свой, круто
взметнув, нацелить в грудь врагу.
А в нашей сотне был хорунжий,
приятель мой, детина дюжий,
похожий, прям и чернобров,
на запорожских казаков,
в атаку шел с особым форсом,
заворожен от пуль и ран,
на нем нарядный был жупан,
носил он шапку с длинным ворсом,
хохол извилистой гадюкой
свисал кокетливо над ухом.
Была в нем нежность и отвага,
ходил всегда спокойным шагом,
гроза врагам и супостат,
он был усладой для девчат.
Всегда готов к любому бою,
его прозвали Галайдою.
Такого пуля не берет,
он от Мазепы вел свой род
и тем гордился. Словно черти,
с картины Репина украв
его, напуганы до смерти,
влюбились в речь его и нрав.
Однажды к нам через кордон
подкрался красный батальон,
он появился в час нежданный
сплошною лавою из тьмы,
когда ж его разбили мы
и тишина над нашим станом
сомкнулась звездная, — тогда
привел шесть пленных Галайда.
Они с померкшими очами
стояли молча перед нами,
и на меня один из них
смотрел так странно… Что-то было
в его очах… я вдруг притих,
передо мною всё поплыло,
какой-то свет из дней былых…
Где я их видеть раньше мог?
Прошел по телу холодок.
Сияли очи, словно свечи,
будили боль забытых ран…
Знакомыми казались плечи
и руки девичьи, и стан
у пленника… И отсвет зябкий
на острый штык тоскливо лег,
но под красноармейской шапкой
я разглядеть лицо не мог.
И долго, долго среди ночи
мне спать мешали эти очи.
Рассветный блеск мерцал вдали,
когда их на расстрел вели,
в последний раз ласкали взглядом
рассветный мир, сиявший рядом,
и солнце тьмы прорвало гать,
когда их стали раздевать.
А самый юный не давался,
как был ни слаб он, как ни мал,
из рук казачьих вырывался,
руками ноги прикрывал…
Но скоро сила одолела —
и перед нами забелело
невинное девичье тело.
Когда ж лицо ее в слезах
увидел я… тоску и страх
те вспоминать не перестану…
Я в ней узнал свою Оксану,
свою любовь!.. Хватался я
за чей-то штык, за ствол ружья
и плакал перед Галайдою,
чтоб отпустил ее живою,
чтоб понял боль мою, беду.
Просили хлопцы Галайду,
но с каменным, угрюмым ликом
он глух был к жалобам и крикам.
Он говорил, и даже брови
казались красными от крови,
стал нос крючком, как у совы:
«Не казаки, а нюни вы!
Наш путь лежит сквозь темень ночи,
сквозь кровь и смерть, неужто нас
разжалобят девичьи очи,
иль в нас казачий дух погас?
А ты, — сказал он мне с угрозой, —
сдержи безумие и слезы
и не мешай мне исполнять
то, что велит отчизна-мать!»
Я и сегодня вижу снова,
как ружья вскинули сурово
и, как один, взглянули все
туда, где жизнь моя, Оксана…
Сияла мушка, вся в росе,
на карабине атамана,
и это значило — конец…
Стоял я, бледен как мертвец.
Казалось, сердце разорвется…
Раздался залп, упало солнце,
земля качнулась, поплыла…
И долго, долго тьма была.
А ночью разбудили нас
внезапной новостью: «Восстанье!»
Казалось, сбудется желанье,
зари рассветное сверканье
судьба нам шлет в счастливый час.
Еще мы гибли в темноте,
но немцы были уж не те, —
тянулись вспять к своим границам,
катился пот по хмурым лицам.
В ту осень слабый свет забрезжил
мне, бед распалась череда.
За самостийную, как прежде,
был Украину Галайда,
и ненавистен мне проклятый
он был — я жаждал с ним расплаты.
В разведку как-то мы пошли.
Чернела полночь, как чернила.
Рукой подать до красных было,
их пушки грозные вдали
угадывались… Ночь бедою
в лицо дышала нам. Средь тьмы,
как привиденья, крались мы.
Я молча шел за Галайдою,
и ненависть сжимала грудь.
А в темном небе Млечный Путь
дрожал над ним и надо мною,
сочились звезды молоком,
и тихо было всё кругом.
И я с решительностью злою
промолвил, словно прорыдал:
«Ну, повернись-ка, Галайда,
поговорить хочу с тобою».
Раздался выстрел, отзвучав
в сиянье звезд и шуме трав,
и эхо дали подхватили.
Он зашатался, обессилел
и молча, словно неживой
предмет, упал… Я, сам не свой,
ускорил шаг. Меня мутило.
Он был мне по оружью брат.
И долго, сколько можно было,
оглядывался я назад.
И мне вослед грозил рукою
мертвец… С поникшей головою
над ним стоял, как часовой,
холодный месяц золотой.
Стал Галайда таким туманным,
и след навек его простыл.
Убил его не за Оксану —
свое в нем прошлое убил.
В моей душе была тревога,
но не раскаянье; веди
меня, тернистая дорога,
к заре, горящей впереди,
где все идут, кто сердцем юн,
к сиянью солнечных коммун.
Село. Хотел зайти я в хату,
передохнуть в тепле. Куда там!
Тень отделилась от ворот,
раздался окрик: «Кто идет?»
Затвор ружейный щелкнул сухо.
«Свои, свои!» — я крикнул глухо
навстречу смерти в тишину,
секунду выиграв одну.
Казалась улица знакомой,
горел огонь в одном окне,
усталость смертная, истома…
И вскоре перед военкомом
я очутился, как во сне.
Но страха не было, однако,
в моей душе, — покой и мир.
«Я взял шпиона, гайдамака,—
сказал ему мой конвоир. —
Их полк недалеко отсюда», —
сказал, блеснул глазами люто
и в угол отошел с ружьем.
И обожгли сухим огнем
меня слова его, как плети,
и горько я тогда ответил:
«Я не шпион. И не был сроду
им никогда. Я лишь казак.
Я лишь добра хотел народу…
да обманулся страшно так…
В лихом войны водовороте
меня кружило и несло.
Я из рабочих, видел зло
и кровь, а вырос — на заводе.
Казалось мне, что в смертный бой
иду за милый край родной,
за речь родимую свою,
за счастье жить в своем краю,
где вольным будет мой народ,
а вышло всё наоборот.
Чтоб не свершить ошибки снова,
пришел я к вам. Казачье слово
даю, что не соврал ни в чем».
Допрос тут начал военком.
Сердечной правдою влеком,
я говорил так долго, страстно,
что военком, кивнув согласно,
сказал: «Из парня будет толк» —
и записал меня в свой полк.
Мы вышли. Ледяная мгла,
клубясь, под звездами плыла,
переговаривались пушки,
была прерывиста их речь,
и были срезаны верхушки
деревьев, словно острый меч
по ним прошелся, пахло дымом
пожаров, тучи крались мимо.
Мы шли по улице знакомой
под шорох мерзнущих садов,
и четкий профиль военкома
на фоне зарев был суров.
Прошли бои. Шумит столица,
блестит в лучах стальная птица —
стальной мотор поет с утра,
и та жестокая пора
мне только снится, только снится…
Но в этих снах упрека нет,
а у колодца, утром рано
сойдясь, подружки сколько лет
толкуют грустно про Оксану,
и плачет, плачет в стороне
старушка в темном шушуне.
Вовек ей не избыть кручины,
то матушка моей дивчины,
Оксаны мать… Но день хорош,
цветет родная Украина,
она, как новая былина,
в дыму строительства густом
в своем убранстве заводском
идет сквозь грозы и туманы,
и что-то есть в ней от Оксаны.
1929