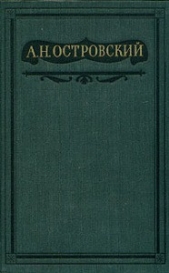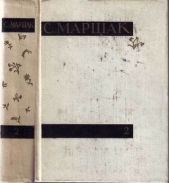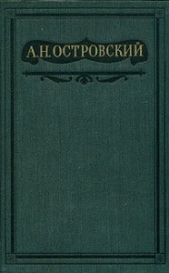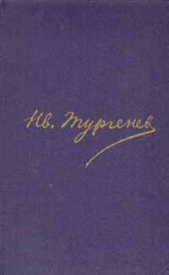Том 4. Пьесы 1865-1867
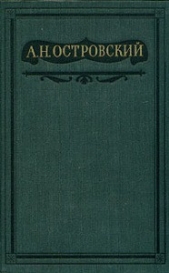
Том 4. Пьесы 1865-1867 читать книгу онлайн
В четвёртый том собрания сочинений А.Н. Островского вошли пьесы 1865–1867 годов, такие, как «На бойком месте», «Воевода (Сон на Волге)» и другие произведения.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Переярков. Уж ты судился за лихвенные-то проценты.
Турунтаев. А ты от своего имени прошений не смеешь писать, — всем сенатом ябедником признан, и в газете публиковано.
Переярков. Процентщик! Кащей! Иуда!
Турунтаев. Вор, денной вор!
Боровцов. Что ж ты лаешься-то!
Турунтаев. А ты что, аршинник!
Погуляев. Вот тебе и душа в душу.
Кисельников. Папенька, Господи, что же вы это! Оставьте, пожалуйста! Играйте!
Турунтаев. Не хочу я с мошенниками играть.
Кисельников. Ну, сделайте милость, помиритесь.
Погуляев. Прощай, брат.
Кисельников. Нет, постой, погоди! Ах, Боже мой! Ах, какое несчастие! Папенька, как же это вы?..
Боровцов. Ну, будет! Пошутили, да и будет. Садитесь играть.
Турунтаев. Садитесь! Пересдать карты, тогда я сяду.
Переярков. Ну, пересдать, так пересдать. (Пересдают.)
Боровцов. Кирюша, ты в самом деле нас ромком бы попотчевал.
Глафира (подходя к Кисельникову). Где ром-то? Где ром-то? Да и деньги-то есть ли у тебя? Ах ты, мучитель! Вылетело у тебя из башки-то, что ром для тятеньки первое удовольствие. Так-то ты об моей родне-то помнишь.
Кисельников. Где ж взять-то? Где ж взять-то? Эко горе-то! Вот какая беда-то! Брат, нет ли?
Погуляев (дает ему деньги). На вот, последние, я-то как-нибудь добуду.
Кисельников. Вот спасибо, вот, брат, одолжил! Век не забуду. (Боровцову.) Сейчас, папенька. (Жене.) Поди пошли поскорей.
Глафира. Помни ты это! (Уходит.)
Кисельников. Вот, брат, вот, вот… совсем деньжонками порасстроился. А ведь будут, знаю, что будут… Я тебе отдам. У меня непременно в этом месяце будут. У меня есть примета верная. Выхожу я вечером на крыльцо, в руке хлеб, а месяц прямо против меня; я в карман, там серебро, мелочь, — вот в одной руке хлеб, в другой серебро, а месяц напротив, значит, целый месяц (сквозь слезы) и с хлебом, и с деньгами.
Погуляев (с чувством). Что ты такое говоришь? Друг мой, в уме ли ты?
Кисельников (со слезами). Оно, конечно, ведь это предрассудок, так ведь, Погуляев, предрассудок? А все-таки, когда человек кругом в недостатках, это утешает, утешает, брат, право, утешает.
Погуляев. Ах ты, бедный! Прощай.
Кисельников. Увидаться бы… мне бы тебе деньги-то…
Погуляев. Да уж не знаю, придется ли. Ах, Кнрюша! Подымайся как-нибудь. Бедность страшна не лишениями, не недостатками, а тем, что сводит человека в тот низкий круг, в котором нет ни ума, ни чести, ни нравственности, а только пороки, предрассудки да суеверия. Прощай.
Кисельников. Спасибо, брат, спасибо, вот одолжил!
Погуляев уходит.
Вот друг-то, так уж друг! Что тут делать-то, кабы не он! Куда деваться? Это мне его за мою правду да кротость Бог послал. Вот этаких бы друзей-то побольше, так легче бы было на свете жить! Не будь его, так совсем бы я перед тестем осрамился.
Сцена III
ЛИЦА:
Кисельников, 34 лет.
Анна Устиновна.
Боровцов, 52 лет.
Переярков.
Неизвестный.
Бедная комната; крашеный стол и несколько стульев; на столе сальная свеча и кипа бумаг.
Между 2-й и 3-й сценой 5 лет.
Кисельников сидит за столом в халате и пишет. Анна Устиновна входит.
Кисельников. Что дети, маменька?
Анна Устиновна. Что мы без доктора-то знаем! Все в жару. Теперь уснули.
Кисельников. Эх, сиротки, сиротки! Вот и мать-то оттого умерла, что пропустили время за доктором послать. А как за доктором-то посылать, когда денег-то в кармане двугривенный? Побежал тогда к отцу, говорю: «Батюшка, жена умирает, надо за доктором посылать, денег нет». — «Не надо, говорит, все это — вздор». И мать то же говорит. Дали каких-то трав, да еще поясок какой-то, да старуху-колдунью прислали; так и уморили у меня мою Глафиру.
Анна Устиновна. Ну, Кирюша, надо правду сказать, тужить-то много не о чем.
Кисельников. Все ж таки она любила меня.
Анна Устиновна. Так ли любят-то! Полно, что ты! Мало ль она тебя мучила своими капризами? А глупа-то, как была, Бог с ней!
Кисельников. Эх, маменька! А я-то что! Я лучше-то и не стою. Знаете, маменька, загоняют почтовую лошадь, плетется она нога за ногу, повеся голову, ни на что не смотрит, только бы ей дотащиться кой-как до станции: вот и я таков стал.
Анна Устиновна. Зачем ты, Кирюша, такие мысли в голове держишь! Грешно, друг мой! Может быть, мы как-нибудь и поправимся.
Кисельников. Коли тесть даст денег, так оживит. Вот он теперь несостоятельным объявился. А какой он несостоятельный. Ничего не бывало. Я вижу, что ему хочется сделку сделать. Я к нему приставал; с тобой, говорит, поплачусь. А что это такое «поплачусь»?.. Все ли он заплатит или только часть? Да уж хоть бы половину дал или хоть и меньше, все бы мы сколько-нибудь времени без нужды пожили; можно бы и Лизаньке на приданое что-нибудь отложить.
Анна Устиновна. Да, да! Уж так нужны деньги, так нужны!
Кисельников. Маменька, вы пишете, что нужно-то? Я вас просил записывать, а при первых деньгах мы все это и исполним.
Анна Устиновна. Записано, Кирюша. (Вынимает бумажку и читает.) «Во-первых, за квартиру не заплачено за два месяца по шести рублей, да хорошо бы заплатить за полгода вперед. Во-вторых, чаю, сахару и свеч сальных хоть на месяц запасти. В-третьих, купить в эту комнату недорогой диванчик. В-четвертых, в лавочку пятнадцать рублей шестьдесят одна копейка, — очень лавочник пристает. В-пятых, фрачную пару…» Уж тебе без этого обойтись никак нельзя. «И в-шестых, ситчику Лизаньке на платье…» Ей уж тринадцатый год, стыдиться начинает лохмотьев-то. Вот что нужно-то. А пуще всего за квартиру да еще детям на леченье. Денег-то у меня, Кирюша, немного осталось.
Кисельников. Из чего остаться-то. Три недели тому назад я вам дал пять целковых.
Анна Устиновна. Немножко-то есть, — два двугривенных, да пятиалтынный, да что-то медными. А все ладонь чешется, все ладонь чешется, — надо быть, к деньгам.
Кисельников. Завтра утром к тестю заеду. Не отдаст честью, просто за ворот возьму.
Анна Устиновна. Ну, где тебе! Ты лучше попроси хорошенько. Взять бы с него, что придется, да и развязаться с ним. Много тебе писать-то?
Кисельников. Всю ночь пропишешь. Да ведь это не свое дело, это за деньги. Слава Богу, что еще дают работу; вон сколько набрал ее, рублей на шесть.
Анна Устиновна. Никак кто-то калиткой стукнул? Не слыхал ты?
Кисельников. Кто-то стукнул. Кому ж бы это?
Анна Устиновна (заглянув в дверь). Тесть твой, тесть. Тереби его хорошенько! Я уйду.
Кисельников. Прежде я с ним все лаской, а теперь грубить стану; право, маменька, грубить стану.
Анна Устиновна уходит. Входит Боровцов, бедно одетый, и Переярков.
Кисельников, Боровцов и Переярков.
Боровцов. Помешали, что ль, тебе?
Кисельников. Нет, ничего. Всего дела не переделаешь. Мне всю ночь-то писать, так уж полчаса куда ни шло. Что хорошенького скажете?
Боровцов (садясь). Дай присесть-то, потом и разговаривать начнем.
Переярков. Надо тебе будет одну бумажку подписать.
Кисельников. Что вы мне всё носите бумаги подписывать; а деньги-то когда же? Хоть что-нибудь дайте!
Боровцов. Что теперь с меня взять? В упадок пришел, — я теперь, брат, невинно-упадший, хоть в работники к тебе, так в ту ж пору.
Кисельников. Да что ж вы, папенька, со мной делаете! Ведь мы — нищие совсем.