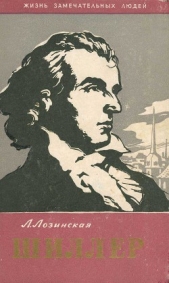Не ты ли, кто от гнета ложных правил
К природе нас и правде возвратил
И, с колыбели богатырь, заставил
Смириться змея, что наш дух сдавил,
Кто взоры толп к божественной направил
И жреческие ризы обновил, —
Пред рухнувшими служишь алтарями
Порочной музе, что не чтится нами?
Родным искусствам царствовать довлеет
На этой сцене, не чужим богам.
И указать на лавр, что зеленеет
На нашем Пинде [313], уж нетрудно нам.
Германский гений, не смущаясь, смеет
В искусств святилище спускаться сам,
И, вслед за греком и британцем, вправе
Он шествовать навстречу высшей славе.
Там, где рабы дрожат, тираны правят,
Где ложный блеск тщеславиться привык —
Творить свой мир искусство не заставят, —
Иль гений при Людовиках возник?
На ремесло свои богатства плавит
Художник, не сокровища владык;
Лишь с правдою обручено искусство,
Лишь в вольных душах загорится чувство.
Не для того, чтоб вновь надеть оковы,
Ты старую игру возобновил,
Не для того, чтоб к дням вернуть нас снова
Младенчески несовершенных сил.
Ты встретил бы отпор судеб суровый,
Когда бы колесо остановил
Времен, бегущих обручем крылатым:
Восходит новь, былому нет возврата.
Перед театром ширятся просторы,
Он целый мир шумливый охватил;
Не пышных слов блестящие уборы —
Природы точный образ сердцу мил;
Не чопорные нравы, разговоры —
Герой людские чувства затвердил,
Язык страстей гремит свободным взрывом,
И красота нам видится в правдивом.
Но плохо слажен был возок феспийский [314],
Он с утлой лодкой Ахерона [315]схож:
Лишь тени встретишь на волне стигийской;
Когда же ты живых в ладью возьмешь,
Ей кладь не вынести на берег близкий,
Одних лишь духов в ней перевезешь.
Пусть плоти зыбкий мир не обретает:
Где жизнь груба — искусство увядает.
Ведь на подмостках деревянной сцены
Нас идеальный мир спешит объять,
Здесь подлинны лишь чувств живые смены.
Растроганность ужель безумством звать!
Но дышит правдой голос Мельпомены [316],
Спешащий небылицу передать;
И эта сказка часто былью мнилась,
Обманщица живою притворилась.
Грозит искусство сцену бросить ныне,
Свой дикий мир фантазии творит —
С театром жизнь смешать, в своей гордыне,
С возвышеннейшим низкое спешит.
Один француз не изменил богине,
Хоть он и вровень с высшим не стоит,
И, взяв искусство в жесткие оковы,
Не даст поколебать его основы.
Ему подмостки шаткие священны,
И изгонять он издавна привык
Болтливой жизни шум несовершенный, —
Здесь песней стал суровый наш язык.
Да, это мир — в величье неизменный!
Здесь замысел звеном к звену приник,
Здесь строгий свод священный храм венчает
И жест у танца прелесть занимает.
Французу мы не поклонимся снова,
В его вещах живой не веет дух,
Приличьем чувств и пышным взлетом слова
Привыкший к правде не прельстится слух.
Но пусть зовет он в лучший мир былого,
Пусть явится, как отошедший дух, —
Вернуть величье оскверненной сцене, —
В приют достойный, к древней Мельпомене.
Где приют для мира уготован?
Где найдет свободу человек?
Старый век грозой ознаменован, [318]
И в крови родился новый век.
Сокрушились старых форм основы,
Связь племен разорвалась; бог Нил,
Старый Рейн и Океан суровый [319]—
Кто из них войне преградой был?
Два народа, молнии бросая
И трезубцем двигая, шумят [320]
И, дележ всемирный совершая,
Над свободой Страшный суд творят.
Злато им, как дань, несут народы,
И, в слепой гордыне буйных сил,
Франк свой меч, как Бренн [321]в былые годы,
На весы закона положил.
Как полип тысячерукий, бритты [322]
Цепкий флот раскинули кругом
И владенья вольной Амфитриты [323]
Запереть мечтают, как свой дом.
След до звезд полярных пролагая,
Захватили, смелые, везде
Острова и берега; но рая
Не нашли и не найдут нигде.
Нет на карте той страны счастливой,
Где цветет златой свободы век,
Зим не зная, зеленеют нивы,
Вечно свеж и молод человек.
Пред тобою мир необозримый!
Мореходу не объехать свет;
Но на всей Земле неизмеримой
Десяти счастливцам места нет.
Заключись в святом уединенье,
В мире сердца, чуждом суеты!
Красота цветет лишь в песнопенье,
А свобода — в области мечты.