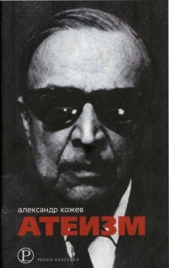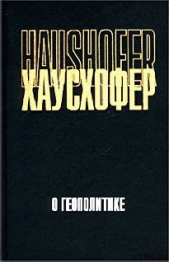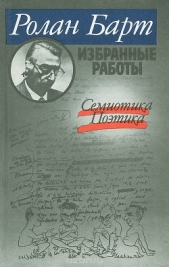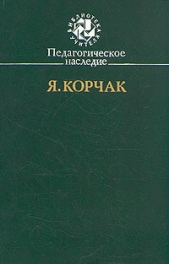Литература как таковая. От Набокова к Пушкину: Избранные работы о русской словесности

Литература как таковая. От Набокова к Пушкину: Избранные работы о русской словесности читать книгу онлайн
Литературой как таковой швейцарский славист Ж.-Ф. Жаккар называет ту, которая ведет увлекательную и тонкую игру с читателем, самой собой и иными литературными явлениями. Эта литература говорит прежде всего о себе. Авторефлексия и автономность художественного мира — та энергия сопротивления, благодаря которой русской литературе удалось сохранить свободное слово в самые разные эпохи отечественной истории. С этой точки зрения в книге рассматриваются произведения А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, В. В. Набокова, Д. И. Хармса, Н. Р. Эрдмана, М. А. Булгакова, А. А. Ахматовой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вернемся к важнейшей сцене из второй главы, и начнем с того, что перечислим несколько элементов, которые позволяют понять, как происходит смена жанра. Это интересный вопрос, если иметь в виду, что моделью романа в то время служили творения В. Скотта, как свидетельствует сам Пушкин в рецензии на вышедший незадолго до «Капитанской дочки» роман М. Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829) [555].
Гринев, Савельич и кучер, захваченные метелью врасплох, вынуждены остановиться, потому что «все исчезло» (406). И в этот момент они замечают вдалеке какие-то непонятные очертания. Этот пассаж напоминает соответствующую сцену из стихотворения «Бесы», которое мы уже цитировали выше: «Кони стали… „Что там в поле?“ — / „Кто их знает? Пень иль волк?“», и тот, кто прочел все стихотворение, знает, что речь идет о присутствии бесовщины, — под знаком которой происходит и первое появление Пугачева:
Вдруг увидел я что-то черное. «Эй, ямщик! — закричал я, — смотри: что там такое чернеется?» Ямщик стал всматриваться. — А бог знает, барин, — сказал он, садясь на свое место: — воз не воз, дерево не дерево, а кажестя, что шевелится. Должно быть, или волк или человек.
Тот, кто в начале был просто «незнакомым предметом», а потом называется «дорожным», выводит их к постоялому двору. Во время этой поездки в кибитке Гринев дремлет и видит сон: он вернулся домой, отец болен, мать объявляет ему о возвращении сына и просит благословить его, но вместо отца Гринев видит «чернобородого мужика», и мать говорит: «это твой посаженый отец» (409). Гринев отказывается подойти под его благословение, и тогда мужик вскакивает с кровати и выхватывает из-за спины топор. Несмотря на то что Гринев в ужасе, он хочет благословить его. В этот момент спящий просыпается. Только после этого сна Пугачев назван «вожатым», то есть словом, которым названа вся глава, — и, конечно, он чернобородый. Гринев жалует ему стакан вина и свой тулуп, который Пугачеву не в пору. Сам он потом забудет об этой истории, но Пугачев говорит: «Век не забуду ваших милостей» (413). Получается, что Пугачев является одновременно в двух обличьях: мужика с топором (символ крестьянского бунта) и ангела-хранителя Гринева, а кроме того, хотя не всякий читатель может это заметить, — как его посаженый отец. Проблемы с памятью тут возникают не только у Гринева, но и у читателя: совсем как Гринев, он не сразу узнает самозванца, а вот старый Савельич узнает его тут же.
Как в повести «Метель», о которой мы говорили выше, здесь просматривается двойной мотив — дорога и метель, причем то и другое имеет ярко выраженное символическое значение. Дорога — метафора человеческой судьбы и истории, метель — обстоятельство, в котором теряются все ориентиры. Время и пространство исчезают, и все становится возможным как в судьбе конкретного человека, так и в ходе истории в целом, при том что две эти линии связаны в общий конфликт. Гринев выезжает из своего имения, то есть из четко обозначенного места (Симбирск), и проводит ночь где-то между этой точкой и пунктом назначения — Оренбургом. Это пространство трех первых глав. До метели, как мы видели, он был еще ребенком. После ночи, проведенной непонятно где, он просыпается уже чуть более взрослым, и теперь становится возможным продолжение романа (война, любовь). Если проанализировать эту структуру, можно заметить симметричную композицию, которая соответствует построению романа в целом и изображена на схеме 4.

Таким образом, во время метели Гринев, сам того не зная, переводит с помощью Пугачева биографическое время — в историческое. Теперь ему осталось понять, что с ним происходит, то есть установить связь между событиями своей жизни и всем, что творится в большой Истории. Что он и сделает с помощью Пугачева, носителя исторического сознания — этот факт подчеркивается его упоминанием о Смутном времени. Сам Пугачев, как мы показали, проделывает обратный путь — и эти два пути в романе Пушкина пересеклись. Причем пересечение оказалось возможным именно благодаря метели.
Так что же: «Капитанская дочка» — это все-таки исторический роман? Можно сказать и так, если прибегнуть к напрашивающемуся сравнению с романом «Юрий Милославский», действие которого помещено в исторический контекст (Смута), весьма напоминающий трудные времена, описанные в «Капитанской дочке», а главный персонаж — тоже самозванец. В период, когда московские жители подчинились польскому королю, молодому Юрию, совсем как Гриневу, приходится выбрать позицию в отношении к Историческим событиям. В этом романе, как и в «Капитанской дочке», герой развивается и взрослеет, погрузившись в ход истории, которая, конечно, сильнее его. Будто бы случайно, роман Загоскина тоже начинается с метели, во время которой полузамерзший запорожский казак Кирша спасает боярина Милославского и его слугу, помогая им выйти на дорогу и найти путь к жилью. Кирша потом в благодарность поможет Юрию в его любовной истории. Если пересказывать роман в двух словах, то получается, что в основе лежит совершенно та же сюжетная канва: встреча в степи двух героев, дворянина и казака, потом ряд исторических событий и любовная история. Это сходство подкрепляется также многими деталями повествования [557]. Однако сходство между двумя романами (это касается сравнений с некоторыми романами Вальтера Скотта, например «Роб Рой» или «Ламмермурская невеста») — сходство тут слишком серьезно и очевидно, чтобы считать его просто результатом влияния (в случае «Юрия Милославского» в голову приходит мысль чуть ли не о плагиате). Мы видим здесь настоящий интертекстуальный диалог, причем его предметом является именно проблема жанра. Таким образом, мы в очередной раз имеем дело с грандиозной рефлексией литературы — о себе самой. Как мы видели в «Метели», когда Пушкин открыто обращается к чужому сюжету, он не подражает, а играет с ним. Эта игра под его пером выливается в полный пересмотр сути того жанра, внешние признаки которого он использует и которые он иногда доводит до степени пародии. В результате получается произведение совершенно иного жанра, чем первоначально мог ожидать читатель. В «Капитанской дочке», как и во всех текстах Пушкина, где есть историческая составляющая («Борис Годунов», «Полтава», «Медный всадник»), все явственней проявляется трагическое измерение: история жестоко обходится с человеческими судьбами. Этого нельзя было предвидеть сначала, ведь все было представлено как романтическое повествование, немного наивный рассказ о двух голубках, где все к тому же должно было хорошо кончиться. Тем не менее пространство повествования заполняет трагическая нота. Это происходит под воздействием персонажа, про которого постепенно становится понятно, что он и есть главный герой. Это Пугачев, который в одиночестве лицом к лицу с историей. В повести «Метель» заглавное событие выполняло задачу смещения пространственно-временных рамок в личной и, скорее, забавной судьбе героев (Владимир, правда, умер, но его смерть почему-то не так уж сильно нас огорчает). Именно метель помогла осуществить вытеснение одного из героев за пределы нарративного пространства. А в «Капитанской дочке» смещения, к которым приводит метель, принимают совсем иной — аллегорический — смысл и размах. Это тем более потрясает, что все начинается с маленькой черной точки в снегу, о которой даже непонятно, волк это или человек. Но этот размах не уменьшает значения пушкинской литературной игры, а именно: переноса тематического элемента (конкретно — поиска пути) на структуру повествования. Наглядный пример такого смещения дает название девятой главы (которая занимает центральное положение, поскольку расположена между описаниями двух главных встреч героев): «Разлука». При первом чтении не возникает никаких сомнений в том, что речь идет о разлуке Гринева и Маши. Но более структурное прочтение показывает, что имеется в виду скорее разлука Гринева и Пугачева. Тот факт, что это происходит в конце второй встречи, усиливает симметричность структуры всего романа. Гриневу, который не понял значения своего сна («Гринев вообще не из понимающих», — замечает Цветаева; 369), нужно было время, чтобы узнать Пугачева, и это узнавание происходит в тот момент, когда они расстаются после второй встречи. С этой минуты у Маши не остается никаких шансов: вся романтическая составляющая смещается в сторону фигуры отца — но не того сурового отца в Симбирской губернии, который запрещает жениться (как и отец Марьи Гавриловны в «Метели»), а того, который делает женитьбу возможной. Этим решительным жестом Пушкин отмывает кровавого героя «Истории Пугачевского бунта» от его грехов перед Лизаветой Харловой, передав его низкий поступок предателю Швабрину. А ему уже и так по ходу написания перешли все отрицательные черты, которые должны были достаться Гриневу (то есть в пушкинских черновиках — предателю своего класса — Шванвичу). Если в историческом плане на сторону самозванца переходит Швабрин, то в плане романном перебежчиком выступает как раз Гринев, и в очередной раз это происходит из-за метели.