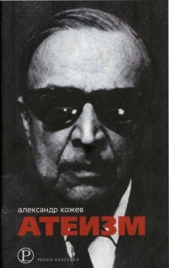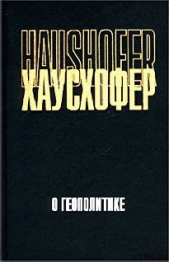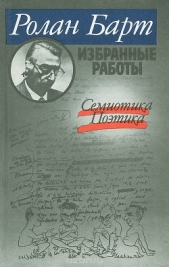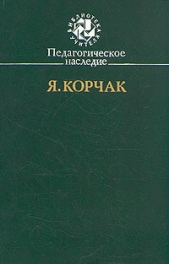Литература как таковая. От Набокова к Пушкину: Избранные работы о русской словесности

Литература как таковая. От Набокова к Пушкину: Избранные работы о русской словесности читать книгу онлайн
Литературой как таковой швейцарский славист Ж.-Ф. Жаккар называет ту, которая ведет увлекательную и тонкую игру с читателем, самой собой и иными литературными явлениями. Эта литература говорит прежде всего о себе. Авторефлексия и автономность художественного мира — та энергия сопротивления, благодаря которой русской литературе удалось сохранить свободное слово в самые разные эпохи отечественной истории. С этой точки зрения в книге рассматриваются произведения А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, В. В. Набокова, Д. И. Хармса, Н. Р. Эрдмана, М. А. Булгакова, А. А. Ахматовой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так о каком же бессмертии идет речь? Гротескное развитие этой темы неразрывно связано у Хармса с его концепцией нарушенного мирового порядка и временной последовательности событий, о чем уже шла речь: если может быть наказание без преступления, то и смерть необязательно влечет за собой конец жизни (бес-порядок —> бес-покойники). И куда поместить чудо воскресения — то самое, в котором усомнились самые близкие к вере герои Достоевского (Мышкин перед «Христом» Гольбейна, Алеша у гроба старца), и, одновременно, то самое чудо, к которому взывает герой Хармса («Неужели чудес не бывает?»).
Жажда чуда является жизненно важной как для героя Хармса, так и для него самого. Это отражено во многих записях писателя совпадающих по времени с написанием «Старухи»: «Есть ли чудо. Вот вопрос, на который я хотел бы услышать ответ» [526]. В другом месте из записных книжек чудо определяется так: «Интересно только чудо, как нарушение физической структуры мира» [527].
Заключительная сцена, в которой герой, преклонив колени, совершает молитву перед гусеницей, оставляет повесть открытой, что дало повод некоторым исследователям для очень оптимистических толкований, которых мы не разделяем. Более того, представляется, что в «Старухе» Хармс трагичнее Достоевского, в том смысле, что единственным «нарушением физической структуры мира» в повести является разложение трупа старухи. Предстоит, разумеется, «энтомологическое чудо» превращения гусеницы в бабочку. Как было нами уже отмечено, насекомое, пригвожденное к земле, пока что ползет как старуха, но скоро «взовьется в воздух, обманет притяжение…, станет почти Богом. Ненадолго конечно, но что бы не отдал бедный человек, дабы испытать подобное вознесение. Увы, чудо при этом останется строго в рамках энтомологии…» [528] Напомним также, что герой пишет текст о чудотворце, который не творит чудес, и что текст этот так и остается не написанным: таким образом, в повести нет и чуда творчества. Однако это уже другая тема [529].
Как видим, повесть Хармса, тематически и идейно связанная с произведением Достоевского, не ограничивается лишь его пародированием. Прежде всего, конечно отказавшись от причинно-следственной связи — «наказание без преступления», писатель с явным осуждением смотрит на свою эпоху. Но помимо того, он подхватывает, пусть даже порой в форме гротеска, вопросы и размышления Достоевского о вере, смерти, воскресении, чуде, бессмертии… Не давая ответов, он выявляет то, что движет как им самим, так и героями Достоевского, а именно — метафизическое сомнение. Только в нем и таится надежда на утешение, ведь, по словам Хармса: «Сомнение — это уже частица веры» [530].
Между «до» и «после»
(Эротический элемент в поэме Пушкина «Руслан и Людмила») [*]
Среди вопросов, которые возникают при анализе поэмы Пушкина «Руслан и Людмила», один из самых сложных — это вопрос об организующем принципе. Проблема, в первую очередь, связана с определением жанра, к которому принадлежит поэма. Сразу после ее публикации в 1820 году этот вопрос стал главным предметом споров, хотя, кажется, эти споры не дали никакого результата. Со своей стороны, мы не собираемся разрешить эту задачу, но кажется небесполезным напомнить, что в поэме представлена удивительная смесь разных жанров и что эта смесь как раз и является главным ее своеобразием. Основным материалом являются, конечно, мотивы русского фольклора — старинных сказок и былин. В русской литературе тем же материалом пользовался В. А. Жуковский в балладе «Двенадцать спящих дев». Из общеевропейских источников необходимо упомянуть прежде всего «Неистового Роланда» Л. Ариосто, «Орлеанскую девственницу» Вольтера и «Оберон» К. М. Виланда. К этому надо еще прибавить влияние эротической поэзии, в частности Э. Парни, некоторые стихи которого переложены почти буквально в «Руслане и Людмиле». Каждый из этих возможных источников заслуживает отдельного разговора, но, повторяем, интереснее задуматься над тем, как Пушкин их синтезировал, преобразуя в свою оригинальную систему.
Подход Пушкина к проблеме жанра в «Руслане и Людмиле» показывает, что он играет в некоторую литературную игру: блестящее чередование сказочного и эпического, волшебного и лирического, средневекового и современного является самым большим достоинством поэмы. Всякая попытка свести ее только к одной из этих характерных черт обречена на неудачу.
Интрига также требует некоторых предварительных замечаний, поскольку она связывает «Руслана и Людмилу» с целой традицией европейского литературного наследия, а именно со средневековым рыцарским романом. Мотив похищения жены, невесты или любимой женщины очень распространен в ирландском и бретонском циклах. Стоит упомянуть роман XII века Кретьена де Труа «Рыцарь телеги», в котором герой Ланселот разыскивает свою любовницу, королеву Джиневру. Еще ближе поэма Пушкина оказывается к некоторым старинным ирландским сказкам [532]. Можно упомянуть довольно известную «Любовь к Этайн», но еще более «Руслан и Людмила» походит на другую ирландскую сказку — «Этна новобрачная»: героиня со своим супругом, также как и пушкинская пара, только что поженились, и во время праздника в замке она вдруг глубоко засыпает; немного спустя ее похищает король-волшебник Финварра. Как и в поэме Пушкина, она спит очень долго и просыпается благодаря чудесному предмету. Нужно назвать еще лэ «Сэр Орфео», в котором королева Юродис, также после долгого летаргического сна, в котором она видит предшествующие события, похищена магической силой [533] и насильственно водворена в очень богато обставленный дворец. Можно также напомнить сказку «Супруга Бальмачизского Владельца», в которой у героя похищают жену и подменяют ее двойником, или «Мэри Нельсон», которую волшебная сила уносит в ту ночь, когда она должна рожать, и т. д. Мотив восходит к греческой мифологии: вспомним исчезновение жены Орфея Эвридики, которое, кстати говоря, является источником вышеупомянутого лэ «Сэр Орфео». Однако у Пушкина движение фабулы подчиняется известным правилам построения, восходящим к средневековым рыцарским романам (вызов, блуждания, поиск, препятствия, сражения, куртуазная любовь и т. п.), хотя очевидно, что здесь присутствует пародийный момент: на самом деле эти правила постоянно нарушаются и составляют, в конце концов, лишь условную псевдосредневековую рамку.
Фабула не изменена: королеву или княжну похищает какая-то сверхъестественная сила (Бог или нечисть), и доблестный герой должен освободить эту женщину, но на его пути возникают препятствия (волшебства, обольщения, соперники, бои и т. д.), которые нужно мужественно преодолеть. «Руслан и Людмила», по-видимому, вписывается в старинную традицию. Однако нельзя не заметить, что Пушкин уходит от героического аспекта, сосредоточиваясь почти целиком на последствиях похищения — на неудовлетворенности сексуального желания и дальнейшем вынужденном воздержании героя. Этот параметр присутствует, конечно, и в рыцарском романе, но на периферии сюжета. Известны в «Рыцаре телеги» томления Ланселота, который забывает все, вплоть до собственного имени, ибо мысль о королеве Джиневре переполняет его существо. После расставания с Говеном он впадает в такое же бессознательное состояние, что и Руслан после расставания с соперниками — Фарлафом, Ратмиром и Рогдаем. Оба, во власти неотвязной мысли, «бросают узду» и представляют лошади выбирать дорогу самой: