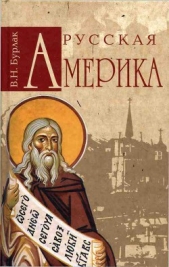Русская ментальность в языке и тексте

Русская ментальность в языке и тексте читать книгу онлайн
Книга представляет собой фундаментальное исследование русской ментальности в категориях языка. В ней показаны глубинные изменения языка как выражения чувства, мысли и воли русского человека; исследованы различные аспекты русской ментальности (в заключительных главах — в сравнении с ментальностью английской, немецкой, французской и др.), основанные на основе русских классических текстов (в том числе философского содержания).
В. В. Колесов — профессор, доктор филологических наук, четверть века проработавший заведующим кафедрой русского языка Санкт-Петербургского государственного университета, автор многих фундаментальных работ (среди последних пятитомник «Древняя Русь: наследие в слове»; «Философия русского слова», «Язык и ментальность» и другие).
Выход книги приурочен к 2007 году, который объявлен Годом русского языка.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Отсюда обязательное устремление к Единому как Благу, что бы ни понималось под Благом: единство в момент опасности, собранность как единение духа или иное что. Устремление к единству со стороны может показаться (и кажется) тяготением к тоталитаризму, хотя в действительности это тяга к определенности, ясности, если хотите — к точности. К завершенности, оформленности целого.
Таково оправдание того удвоения мира в сознании русского человека, которое его неприятели подчас именуют двоемыслием или даже двоедушием. А это всего лишь признание равноценности того и другого: и разума, и ощущения, но — разума, а не рассудка, и ощущения, а не чувства.
В такой вот развертке противоречивых сил и в таких формах отливается наша ментальность. Год за годом и век за веком, в труде и в борьбе. Таковы и объемы мира, которые своей завершенностью в сознании предстают как развороты мысли и чувства от себя и вовне. Есть и точки отсчета, которые также всегда на виду. Одни и те же в народной сказке и в зрелом философском труде. Развертка верх—низ определяет нормы этические: возвышенность дел одних и низменность им противоположных; право—лево — нормы логические, они построяют движение мысли в дискурсе; перед—зад — это нормы эстетические. Пространство не просто простор и не только страна. Пространство размещения творит всё вокруг, мир растет и ширится по мере того, как человек осваивает все его тонкости, все его признаки и движения. А тут уж кто и что предпочтет. Строгость логики, нравственность этики или одну красоту, в которой, быть может, как раз всё и сходится.
Специфическую особенность русского сознания видят в его «манихействе». Вернее было бы говорить о славянском богомильском дуализме, согласно которому в основе мира доброе и злое начала равноценны и равнозначны, и духовное и мирское одинаково построяют мир — одно без другого не в бытии и есть всего лишь идеи; только их слиянность в единстве порождает событие, а сокрушительная схватка их друг с другом движет миром. Говоря о православии как коренном признаке «русскости», не следует забывать о богомильстве как народном, в корне языческом субстрате христианских воззрений русского человека. Это своего рода славянский протестантизм, время от времени воспламенявший русские души в борьбе против закрепощения их тел. Свободолюбие — в отношении к власти, нестяжательство — в отношении к общине, аскетизм в личной жизни, терпимость — в отношении к другим — таковы национально-русские черты, восходящие к подобному дуализму. В обыденной жизни дуализм сознания носил черты почти религиозные и потому сохранился в действии, откликаясь на земные тяготы русских людей. А оценка его со стороны как «манихейства», якобы постоянно ищущего врага вне себя, есть оценка русского дуализма извне, и оценка лживая.
А лживость основана на «чистом» ratio.
Логика рационального видит поверхность сложившейся системы, не обращаясь к глубинам истории. Русский наблюдатель, напротив, ищет источник двоичности и без труда находит.
Менталитет как зло — это восточная точка зрения, менталитет как благо — западная. «Мысль создала понятие "менталитет" и занимается рассуждениями о самой себе» [Менталитет 1994: 6] — кружит на одном месте и осуждает всё, что в это понятие не входит. Исторически русская ментальность испытала воздействие древнегреческой — объективной, обращенной к внешнему миру, и христианско-семитской — субъективной, обращенной к душе [Разин 1994]. Внутреннее противоречие между языческим и христианским возникло в русском сознании потому, что противоречия двух движений — души и духа, сердца и головы — определялись особенностями языка, которым славяне владели в моменты особенно сильных таких влияний извне. Например, совмещение субъект-объектных отношений, категория одушевленности, синкретизм пространственно-временных связей. Не столь уж и ошибочно предположение, согласно которому в свое время «лишенная социального иммунитета» русская духовность стала «полем брани» между эллинской рациональностью и семитской иррациональностью. «Возможно, подсознание россиянина заполнено семитским содержанием, а сознание — эллинской рациональностью (благодаря просвещению). Таким образом два культурных начала пересекаются в каждом индивиде» и в разных условиях побеждает одно из них [Там же: 29]. Невольно возникает вопрос: а что у этого «россиянина» свое?
Видимо, то самое, что и является как единственное противоядие подобному «манихейству» — «языческая стихия», на которую неосторожно списывают все минусы русской ментальности: «беспредел русской власти», «русский нигилизм», «феномен вождизма» и даже стремление «жить идеей» — всё это «языческое ослепление» [Василенко 1999], которое, конечно, следует умерять христианским смирением. Однако в действительности, взятое само по себе, вне всякий влияний со стороны, всё это — присущее русской душе стремление к Природе, природному, своему. «Семитское» подсознание и «эллинское» сознание нейтрализуются чем-то третьим, природно высшим, неким сверхсознанием, т. е. своим коренным духом, который идеально противопоставлен вещности каждого внешнего влияния и часто перерабатывает в свою пользу его результаты.
Таково последнее раздвоение, рождавшее свойства русской ментальности. И оно, как все прочие, не органично присущее нам, но является благоприобретенным, пришедшим исстари и, в общем, как кажется, не зря.
Культ, христианство, а в конечном счете культура взывает к нравственной силе личности.
Языческая субстанция нашего рода, общества нашего, всё время возвращает нас к красоте как коренному свойству истинного и нравственного.
Цивилизация государства требует разобраться раз и навсегда, за левых ты или за правых, куда идешь и с кем обретаешься.
Логика жизни, нам говорят, «логика требует», «логика хочет», логика тянет в борьбу. Но логика только доказывает, она неспособна открыть нового. И логика жизни тоже — всего лишь быт, и вещность его не в силах сокрыть идеи.
А все-таки глубь-глубина важнее для нас, приемистей, слаще. Эти пространства мысли, эти просторы идеи — они в глубине.
Да и не нами сказано: «Не стану рубить я правой руки, не стану рубить и левой — обе сгодятся для дела».
Чтобы яснее представить себе взаимное отношение только что рассмотренных категорий, представим их в общей схеме, так удобнее проследить динамику развития русских концептов во внутренней их противоположности и системную их иерархию, отложившуюся в подсознании русского человека (они постоянно изменяли свой статус, функцию и ценность).
Сегодня нам кажется, будто общее направление движения таково:
от Востока к Западу, т. е. из пространства во время (в историю);
от язычества к христианству (к идеологии);
от природы к культу (к культуре);
от общества к государству (к социальности);
от народа к личности (к свободе), и т. д.
Таким и должно быть наше представление о том, что было. Современная мысль находится во власти двоично-привативных оппозиций, члены которых определяются установкой на «маркированный» (отмеченный положительным признаком) член. Маркированы, разумеется, вторые члены противопоставлений, создающие как бы цель движения. Но это обманчивое впечатление, иллюзия с высоты сегодняшнего дня. Когда движение начиналось, никто не ставил перед собой подобных целей. Целей не было, как не было и причин — были у-слов-ия, определенные словом и направленные делом.
Само же движение проходило согласно принципу, присущему Средневековью, в иерархии градуальности, с постоянной заменой признаков различения, скольжением их по граням бытия и быта. Конечная цель не была ясна, как не ясна она и тогда, когда ее только ставят вполне сознательно. Следовательно, и в нашем случае происходило такое же пересечение самых разных принципов и направлений движения. Вполне возможно, что это были столь привычные для Средневековья триады типа язычество—христианство—культура (от культа к культуре) или общество—государство—личность (в развитии признака свободы). Трудно определить достоверно, какие волны накатывались друг на друга, исполняя свое дело и уходя в небытие. Но что достаточно ясно, так это следующее: