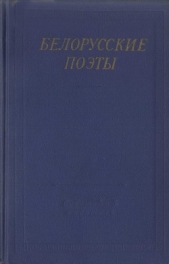Языки современной поэзии

Языки современной поэзии читать книгу онлайн
В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.
Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Обратим внимание на то, как Ежи Фарыно интерпретировал мотив транспорта в творчестве Пастернака:
…у Пастернака ни на чем никуда нельзя доехать без препятствий — по дороге он устраивает то обвалы <…>, то снежные заносы <…>, то тупики, то пробки <…> и вызванные этим пересадки и высадки. <…> По техническому критерию, это мена транспорта с наиболее современного на наиболее традиционный. По концептуализации — такие пересадки сопровождаются все более тесным контактом с сущностью мира и подводят ко все более отчетливому откровению, так сказать, ‘мировой истины’.
В стихотворении Кривулина тоже наблюдается направленность от автомобилиста к ямщику.
Текст продолжается описанием индустрии транспортного комфорта, а эта тема влечет за собой переход на иностранные языки: резина micheline / аксессуары от dunlop. И в последней строфе, после всех рассуждений о транспорте, возникает тема звуковоспроизводящей аппаратуры — новая метафора поэта. Слово автомагнитола имеет общий первый корень со словами автомобиль, автобус и автор [285]. Об автобусе говорилось как о самом безнадежном способе передвижения, так как движению препятствует сама смерть в образе блоковского снега. Автомагнитола тоже оказывается неэффективным механизмом, но теперь актуализируется уже не стремление предмета к движению, а его звукопорождающая сущность. Автомагнитола помещается в оппозицию по отношению к творческой личности: этот прибор многократно воспроизводит давно известную песню о ямщике, замерзающем в глухой степи (отметим противопоставленность этого образа образу теплых гаражей), — песню, ставшую типичным явлением массовой культуры [286].
Слова где ямщик замерзает по-английски имеют, по крайней мере, два смысла: они указывают и на то, что автомагнитола воспроизводит русскую песню в переводе на английский язык (вероятнее всего, верлибром), и, в соответствии с фразеологической семантикой, на то, что гость уходит не прощаясь — нарушая этикет, но осуществляя право на личную свободу. В соединении контекста стихотворения с контекстом общекультурных символов вся земная жизнь ямщика предстает пребыванием в гостях, откуда он волен уйти «по-английски, не прощаясь». Но ведь содержанием песни является именно прощание: ямщик расстается с товарищем, просит передать поклон батюшке, матушке, вернуть обручальное кольцо жене. Может быть, автомагнитолу выключают, не дослушав тесню до конца? Тогда этот финал резко противопоставлен понятию свободы слова и свободы поведения, на котором основана манера «уходить по-английски».
Вся образная система стихотворения заставляет видеть функциональное подобие ямщика с автомобилистом и поэтом, непременный атрибут которого — Пегас. Кстати, лошадь тоже может быть личным транспортом.
По концепции финальной строфы, условие существования верлибра, заявленное в начале текста (развитие личного транспорта, свойственного современной цивилизации), ведет к прекращению личной свободы, к насильственному разрыву связей с близкими (уходу без прощания), к невозможности сказать главные слова, к утрате своего языка. Этот смысл можно было бы передать, например, такими словами: «отстаньте от меня с вашим верлибром, мне нужны ритм и рифма, в них мое спасение». Но автором стихотворения сказано гораздо больше и далеко не только о себе.
Парадокс состоит в том, что это стихотворение Кривулина написано именно верлибром, оно является частью цикла «В распеленутых ритмах».
Согласно теории Тынянова, верлибр отличается от прозы толькo единством и теснотой стихового ряда. Эти свойства текста Кривулин усугубляет, устраняя синтаксическое членение текста, по крайней мере, визуально: в стихотворении нет знаков препинания (кроме одного тире), нет заглавных букв. Но и при нормативном отсутствии знаков препинания в некоторых фрагментах текста слово может быть отнесено и к предыдущей, и к последующей части высказывания. Например, обстоятельство в трамвае способно образовать синтаксические сочетания почти со всеми словами своей строки: 1) теснота в трамвае, 2) стихотворного ряда в трамвае, 3) в трамвае требует. Можно признать разные способы членения вариантными для читателя, а можно и воспринять их как единый смысловой комплекс. Понятно, что во втором случае строка теснота стихотворного ряда в трамвае конечно же требует предстает синтаксически иконичной по отношению к содержанию высказывания.
Ослабление синтаксической расчлененности текста компенсируется визуальной упорядоченностью строк и строф, расположенных по вертикальной оси симметрии. Кроме того, общий зрительный контур стихотворения, похожий на воронку, создает впечатление убывающей речи, что соответствует сюжетному финалу текста.
Обобщая анализ стихотворения, можно сказать, что рассуждения о структуре стиха предстают в нем рассуждениями о жизни, не мыслимой вне творчества как движения, при этом жизнь архетипически представлена как путь. Но замедления и ускорения на этом пути определены не машинами для передвижения, а стихотворными размерами. Метафоричность стихотворения с уподоблением транспорта стихосложению заставляет обратить внимание на то, что слова метафора и транспорт эквивалентны по этимологическому и словообразовательному значению. А в современной Греции ездят машины с надписью μεταφορά (‘доставка’, ‘перевозка’).
Имея в виду поэзию Виктора Кривулина в целом, можно сказать, что и прошлое, и настоящее, и будущее, и культуру, и историю Кривулин постигал через слово, преобразуя общеязыковое слово в личное. «Принцип свертки исторического опыта в личное слово» (Каломиров, 1986) [287] оказался в высшей степени продуктивным во многом потому, что, как сформулировала Ольга Седакова, поэзия Кривулина — «это скрещение аналитичности и самозабвения, иначе — историчности и лиризма» (Седакова, 2001-б: 239).
Дмитрий Александрович Пригов: инсталляция словесных объектов
Я певчим осмысленным волком
Пройду по родимой стране
И малою разве уловкой
Поймаюсь и станется мне
Представить, что будто не волк
А птица — и сразу весь толк
И смысл
Как бы смоется
То, что написано Д. А. Приговым, рассчитано на понимание в контексте концептуализма — литературно-художественного направления, в России особенно активного в 70–80-е годы XX века. Концептуализм в России развился в коллективный проект с четко продуманной стратегией. Пригов объяснял это явление так:
Концептуализм <…> …акцентировал свое внимание на слежении иерархически выстроенных уровней языка описания, в их истощении (по мере возгонки, нарастания идеологической напряженности языка и последовательного изнашивания) <…>. В плане же чисто композиционно-манипулятивном для этого направления характерно сведение в пределах одного стихотворения, текста нескольких языков (т. е. языковых пластов, как бы «логосов» этих языков — высокого государственного языка, высокого языка куль-туры, религиозно-философского, научного, бытового, низкого), каждый из которых в пределах литературы представительствует как менталитета, так и идеологии. <…> они [языки. — Л.3.] разрешают взаимные амбиции, высветляя и ограничивая абсурдность претензий каждого из них [на] исключительное, тотальное описание мира в своих терминах (иными словами, захват мира), высветляя неожиданные зоны жизни в, казалось бы, невозможных местах.
Широко распространяться тексты концептуализма стали с конца 80-х годов. Авторское «я» сначала было категорически внеположено текстам, как бы иллюстрируя знаменитый тезис Р. Барта о постмодернистской «смерти автора», в дальнейшем эта категоричность уступила место релятивности: