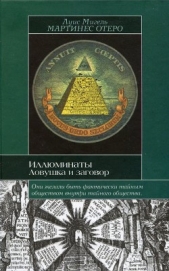Интеллектуальный язык эпохи: История идей, история слов

Интеллектуальный язык эпохи: История идей, история слов читать книгу онлайн
Исторический контекст любой эпохи включает в себя ее культурный словарь, реконструкцией которого общими усилиями занимаются филологи, искусствоведы, историки философии и историки идей. Попытка рассмотреть проблемы этой реконструкции была предпринята в ходе конференции Интеллектуальный язык эпохи: История идей, история слов, устроенной Институтом высших гуманитарных исследований Российского государственного университета и издательством Новое литературное обозрение и состоявшейся в РГГУ 16–17 февраля 2009 года. Организаторы конференции — С. Н. Зенкин и И. Ю. Светликова. В настоящем сборнике публикуются статьи ее участников.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
При этом в общелитературной семантике особенно подчеркивается иронически-пренебрежительный характер такого обозначения: ср. «Субъект (ирон. пренебр.) — о человеке» [217].
Литературные свидетельства такого словоупотребления многочисленны и восходят к 40-м годам XIX века, то есть к периоду, когда это слово входит в широкий оборот, вызывая многочисленные негативные реакции у ревнителей чистоты русского языка. Причем в семантике слова «субъект» наблюдается переход от нейтрального обозначения человека как предмета наблюдения к обозначению, содержащему неодобрительную, ироническую, осуждающую оценку.
Ср. пример нейтрального значения «субъекта» как существа претерпевающего, то есть как «предмета»:
«Зачем же я тогда вам так понадобился? Ведь вы же около меня ухаживали? — Да просто как любопытный субъект для наблюдения».
Ср. пример негативной коннотации термина:
«Теперь XIX столетие. У всякого свое самолюбие есть! Я хоть и маленький человек, а все-таки я не субъект какой-нибудь и у меня в душе свой жанр есть! Не позволю!»
В философском дискурсе складывается аналогичная ситуация. Вернее, в силу своей определяющей роли при вхождении слова субъект в русский литературный язык философский дискурс и оказывается, по всей видимости, связующим звеном широкого распространения реалистической семантики субъекта как обозначения человека в предметно-страдательном аспекте.
«Он был лет 50, из духовного звания, по фамилии Ивин; считался студентом, […] учился […] сначала в школе, потом в кельях у какого-то Префекта, наконец в передней у Ректора и кончил академический курс. Это — такой субъект в смысле новейшей Логики, в котором всеобщий ум человеческого рода только лишь выявился; для дальнейшего же своего раскрытия перешел в другие субъекты» [218].
Уже у русских шеллингианцев можно встретить подобное словоупотребление, свидетельствующее о том, что понятие субъект немецкого идеализма воспринимается ими в смысле предмета, которому приписываются свойства и способности. Примеры этому можно найти у Д. Велланского в его «Пролюзии к медицине» (1805) и «Опытной, наблюдательной и умозрительной физике» (1831). Следуя терминологически за натурфилософией Шеллинга и даже впервые создавая шеллингианскую терминологию по-русски, Велланский толкует субъект как реальный источник деятельности, противостоящий объекту как мертвой «вещественности». Тождество («идентитет») [219] объекта и субъекта представляется как единство двух видов реальности, двух миров — «существ» и «веществ» [220]. На данную тенденцию указывает и Г. Шпет, цитируя работы шеллингианца И. И. Давыдова, в которых обнаруживается «психологистически-теистическое извращение понятий объекта, субъекта и абсолюта»: «Мир чувственно постигаемый, objectivitas, „для краткости“ (sic!) называется природою; дух, созерцающий внешние предметы и себя, subject-object, „просто“ (!) человек» [221].
Не составляет исключения в этом отношении и творчество В. Г. Белинского, которому принадлежит заслуга широкого публицистического распространения терминов «субъект» и «объект» в русском языке. У Белинского нередко встречаются формулировки наподобие следующей: «Два противоположные друг другу предмета — мыслящий (субъект) и мыслимый (объект)» [222].
Весьма важным в русской философской семантике «субъекта» и «субъективного» становится историософский мотив, который уже с 30—40-х годов XIX века сплавляет обсуждение собственно философских проблем с рассуждениями о месте и предназначении русского философского дискурса перед лицом европейского. Причем именно интерпретация семантики терминов «личность», «субъект» и «индивидуум» в смысле реальных сущностей оказывается риторической основой для обвинения западной мысли в «субъективизме» и противопоставления ей «универсального» или «цельного» русского философствования.
Суждения на эту тему многочисленны, но стереотипны: «одностороннее развитие личного ума» (А. С. Хомяков) [223], «этот самодвижущийся нож разума, этот отвлеченный силлогизм, не признающий ничего, кроме себя и личного опыта, этот самовластвующий рассудок» (И. В. Киреевский) [224], «преимущественное стремление к личной и самобытной разумности в мыслях, в жизни, в обществе и во всех пружинах и формах человеческого бытия» (И. В. Киреевский) [225], «у западных народов преобладает начало личности, индивидуальности» (архим. Феофан Авсенев) [226], трансцендентальный субъект как «аномалия отвлеченной мужественности» (В. Ф. Эрн) [227]. В хор осуждения «субъективизма» включались порой и авторы, в общем не склонные к историософским спекуляциям славянофилов, например Вл. Соловьев (субъект — «самозванец без философского паспорта») [228] или Г. Шпет.
Для истории рассматриваемых понятий характерно, что даже и представители того течения русской мысли, которое выдвигало идею субъекта и личности как основную и центральную, мыслят ее в том же семантическом поле, что и их оппоненты. Субъект и у них оказывается синонимом вещественной реальности, а именно — частного, конкретного индивидуума, ради которого Белинский был готов броситься вниз головой с лестницы прогресса, чтобы не отдавать субъекта под власть гегелевского всеобщего. «Судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб всего мира!» — провозглашал он в знаменитом письме к В. П. Боткину (1 марта 1841 года). «Субъект у него [Гегеля] не сам себе цель, но средство для мгновенного выражения общего, а это общее является у него в отношении к субъекту Молохом, ибо, пощеголяв в нем (субъекте), бросает его, как старые штаны».
Так что и среди западников хотя семантика термина «субъект» и лишена негативных аспектов, но тем не менее он используется для обозначения класса существ с определенными реальными свойствами (конкретный человек, внутренний мир, индивидуальное сознание и проч.). Не случайно, что столь тонкий наблюдатель языка, как В. А. Жуковский, в своих размышлениях о русском «философическом языке» (в конце 1840-х годов) предлагает вообще избавиться от термина «субъект», заменив его словом «лицо» в смысле конкретной индивидуальности, а «субъективное» вернуть к старому значению «подлежательное» [229].
Таким образом, уже при формировании семантики субъекта в русской истории понятий происходит подмена основной кантовской проблемы субъекта — возможности обоснования истинного познания — вопросом о свойствах реального познающего существа.
Весь смысл кантовской «революции в образе мышления» находит выражение в той семантической трансформации, в результате которой происходит переход от понятия субъекта как «подлежащего» в предметном смысле к понятию субъекта как принципа единства и самореферентности сознания, организующего достоверное познание. Субъект — это совокупность условий, обеспечивающих возможность категориального синтеза суждений. И этот смысл совершенно утрачивается, если снова понимать субъект и объект по типу двух предметностей (вроде внутреннего и внешнего мира), а кантовский «коперниканский переворот» характеризовать как простое переворачивание отношения предмета и познания, то есть как зависимость реальности от представлений познающего индивида [230]. В кантовском обосновании познания речь идет как раз не о реальных сущностях, а об условиях возможности того, как достоверным образом опознается реальность в опыте. И вследствие радикального изменения взгляда на познание такие условия возможности, к каковым принадлежит и единство познающего субъекта, уже не могут быть рассмотрены как часть этой самой реальности, будь то вещественной или, психической, или даже как некая самостоятельная реальность, наряду с миром эмпирических предметов.