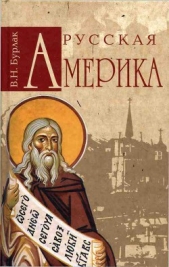Русская ментальность в языке и тексте

Русская ментальность в языке и тексте читать книгу онлайн
Книга представляет собой фундаментальное исследование русской ментальности в категориях языка. В ней показаны глубинные изменения языка как выражения чувства, мысли и воли русского человека; исследованы различные аспекты русской ментальности (в заключительных главах — в сравнении с ментальностью английской, немецкой, французской и др.), основанные на основе русских классических текстов (в том числе философского содержания).
В. В. Колесов — профессор, доктор филологических наук, четверть века проработавший заведующим кафедрой русского языка Санкт-Петербургского государственного университета, автор многих фундаментальных работ (среди последних пятитомник «Древняя Русь: наследие в слове»; «Философия русского слова», «Язык и ментальность» и другие).
Выход книги приурочен к 2007 году, который объявлен Годом русского языка.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Только в XVIII в. расхождение между духовной совестью и рассудочным сознанием обретает законченные черты. Еще у поэта и переводчика Тредиаковского совесть и сознание синонимы, но к концу XVIII в. слово совесть соотносится уже с другим рядом нравственных определений, с честью прежде всего. Лев Толстой чуть позже говорил, что «совесть есть память общества (а это честь. — В. К.), усвояемая отдельным лицом», а это уже совесть. А писатель знал, что говорил, его не случайно называли последним совестливым человеком своего времени.
Так слово совесть в своих обозначениях прошло путь смысловых изменений, направленных, с одной стороны, реальностью общественных отношений, а с другой — символическим содержанием самого термина:
‘сообщение’ > ‘известие’ > ‘знание’ > ‘убеждение’ > ‘совесть’ —
как указание или повеление собственного сердца. «Чистое сердце» евангельских притч стало у нас «чистой совестью». Сердечное, а не умственное лежит в основе символа-метафоры. Еще в XVII в. совестный значило ‘известный’, а уже веком спустя стало обозначать совестливого. «Совесть по существу есть искренность, т. е. свобода духа» [Меньшиков 2000: 288].
Публицисты XX в. не раз обращались к противопоставлению честь и совесть, показывая, что «движение к общечеловеческим ценностям» лежит на пути расширения личной совести до «общечеловеческой чести» [Пешехонов 1904: 416]. Однако честность и совестливость не одно и то же, по крайней мере в русском представлении. Русский человек всегда совестлив, но редко честен — это тоже важная тема русской литературы. Он не бес-честен, а именно не-честен, а это тоже разница, и большая. Бесчестный лишен чувства чести, нечестный им пренебрегает — но только в случае, когда идея корпоративной чести разрушается и человек уже не связан достоинством обязательств. Иван Ильин (3: 145 и след.) описал последовательные этапы развития бесчестья — начиная с простейшего искушения. Совсем иначе — «больная совесть» (слова Глеба Успенского): «Это чувство собственной виновности, не уравновешенное сознанием (!) правоты» [Пешехонов 1904: 383] — типично русское душевное переживание. Честность не соотносится со справедливостью, поскольку честь есть корпоративная совесть, а собственно совесть направлена на достижение справедливости со-в-мест-но.
Так что «совесть нужна каждому человеку, — утверждал Иван Ильин, подчеркивая все слова своего определения. — Совесть есть живая и цельная воля к совершенному» — это качественность, «первый и глубочайший источник чувства ответственности... основной акт внутреннего самоосвобождения... живой и могущественный источник справедливости... главная сила, побуждающая человека к предметному поведению», живой элемент упорядочивающей культурной жизни. Если человек не может поднять себя до своей совести, то «понимание совести снижается или извращается». Вот что такое совесть согласно русской интуиции — «лучи качественности, ответственности, свободы, справедливости, предметности, честности и взаимного доверия» [Ильин 1: 114, 115]. В этом представлении совесть уже никакой связи с сознанием как интеллектуальным действием не имеет. Совесть есть совестный акт, акт духовный, а не рассудочный. И если люди ждут от совести суждения (indicium), то есть облеченного в понятия и слова приговора, то это ошибка; именно мысль и губит совесть: «Мысль, двигаясь между совестью и приговором, начинает сначала заслонять показание совести, потом насильственно укладывать его в логические формы, искажать его своими рассуждениями и даже выдавать себя за необходимую форму совестных показаний. Ум заслоняет совесть; он умничает по-земному, по-человеческому... От этого человек теряет доступ к совестному акту и начинает принимать рассудочные соображения своего земного ума и земного опыта за показания самой совести» и «совесть перестает быть силою», потому что вообще — «совестный акт не есть акт интеллекта» [Ильин 1: 120—122; ср. также: [Ильин 3: 361 и след.].
Если уж русский философ в своих интуициях глубоко проник в сущность явления и сумел его выразить в слове — стоит ли вообще беспокойным людям возвращаться к вопросу, пересказывая вторичные свои интуиции, да еще и невнятными словами?
Но стыд и срам в утверждении оборачивается в отрицании новым: ни стыда ни совести.
Совесть — отчужденно-личная категория стыда, идеально представленная на месте и личного переживания стыда (стынет кровь), и общественного осуждения (срамят). «Совесть, — утверждал Лев Толстой, — есть память общества, усвояемая отдельным лицом». Не индивидуальная личная совесть, а общая на всех со-вмест-ная со-весть. В древнерусских текстах еще и в XV в. слово совѣсть одновременно передает значения ‘сообщение, извещение’, ‘сознание’ и ‘знание’ чего-то важного.
Из общих признаков, выявленных философами, «совесть есть знание добра» (Иван Ильин) — поскольку святость доблестна, т. е. в обозначении связана с тем же корнем *dob-, что и слово доб-ро (доб-ль). Как благодать, совесть противопоставлена закону чести, представляя собой «центральную силу, созидающую личность» (Николай Шелгунов). «Конечно, совесть есть более, чем требование, она есть факт» (Владимир Соловьев), поскольку внутренним напряжением воли постигает не холодную истину, но ищет живую правду. Личная совесть важнее и сильнее корпоративной чести, как и совесть выше простой сознательности: только совесть диктует «безусловно должное» (Евгений Трубецкой). Русской ментальности чуждо представление о совести как о глубинно бессознательной силе, от которой притом сокрыто сущее; это не личная творческая сила сродни интуиции, обслуживающая индивидуума (как полагают западные ученые; например, Франкл на основе некоторых идей Гегеля), и тем менее она есть «рабская трусость перед мнением других» (Шопенгауэр), поскольку именно на цельности общей правды действие совести и основано.
Русское представление о совести сближается с чувствами стыда и правды: как особое внутреннее существо, которое чувствует плохое и хорошее (духовное качество по преимуществу). В отличие от этого английское conscience тоже внутреннее чувство, но знающее разницу между правильным и неправильным, а немецкое Gewissen — внутренний голос, способный судить, хорошо или плохо [Пименова 1999: 31]. Судить или чувствовать — разница есть, не говоря уж о чисто разумном начале английской совести, которая одновременно с тем и сознание.
«Существование совести в человеке есть опять факт, который не подлежит сомнению. Весьма редки примеры людей, в которых этот внутренний голос совершенно заглушен... Действовать по совести может только сам человек, по собственному побуждению. Совесть есть самое свободное, что существует в мире: она не подчиняется никаким внешним понуждениям» — всё верно, но тут же чисто «немецкое» толкование: «Самая просветленная совесть есть только судья, который произносит приговор; она ограничивается оценкой действия, но не она исполняет свои решения...» [Чичерин 1998: 155, 158]. Решение принимает — честь.
Любопытно такое, в сущности, диалектическое кружение мысли между идеями чести и совести. Объективно обе они воплощают единство личного и общего, но взгляд на это единство — разный. Человек чести связан законами долга, наложенными на него обществом, однако принимает решение сам, лично — по чувству ответственности. Совестливый человек весь — в плену личного «демона», подчас иссушающего душу, но именно такой человек решается на поступок иногда вопреки своему «я» — по зову совести. Там начинают с долга и кончают ответом на нравственный вызов; здесь начинают с личной ответственности, завершая исполнением долга. Герои западной литературы — индивидуалисты, персонажи Хемингуэя или Ремарка живут понятием чести; герои русской литературы погружены в бездны совести. У европейца границы свободы определены долгом, у русского воля направлена совестью. Когда Аарон Штейнберг пишет о диалектике свободы у Достоевского, он ни словом не поминает основной для писателя идеи совести. Проработка концепта «совесть» — заслуга писателя в развитии мировой философии: «В нем Совесть сделалась пророком и поэтом, — писал Иннокентий Анненский. — Он был поэтом нашей совести».