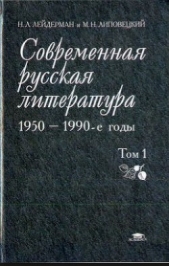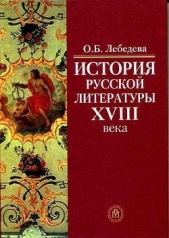История русской литературы XIX века. В трех частях. Часть 1 1800-1830-е годы

История русской литературы XIX века. В трех частях. Часть 1 1800-1830-е годы читать книгу онлайн
Рекомендовано УМО по специальностям педагогического образования в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 032900 (050301) – «русский язык и литература». В учебнике даются современные подходы в освещении основных этапов историко-литературного процесса.
В соответствии с новыми данными филологической науки пересматривается традиционная периодизация историко-литературного развития, расширяется и уточняется представление о ренессансной природе русского реализма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Удалой кузнец Вакула в повести «Ночь перед Рождеством» легко обуздывает черта крестным знамением и заставляет зло служить ему во благо. Оседлав нечистого, он взлетает с ним в поднебесную высь и несется в Петербург добывать черевички с ноги царицы для своей возлюбленной. Как в сказке, он подкупает великую императрицу «дурацким» простодушием, получает золотые туфельки и возвращается обратно, не забыв «отблагодарить» послужившего ему нечистого по-народному: «Тут, схвативши хворостину, отвесил ему три удара, и бедный черт припустил бежать, как мужик, которого только что выпарил заседатель».
Фрейлины царского дворца, слушая баллады Жуковского, «поэтического дядьки ведьм и чертей», падали в обмороки от ужасов, в них представленных. Гоголь изображает тот же мир, но иначе, по-народному, со свойственной русскому человеку трезвостью и здравым смыслом. По контрасту с балладными ужасами Жуковского гоголевская фантастика вызывала веселый, очистительный смех и у наборщиков, и у Пушкина, и у всех русских читателей. Вот у подгулявшего не в меру деда черти унесли шапку с важной грамотой от запорожцев к самой царице. Отправился он выручать грамоту в самое пекло: «Батюшки мои! – ахнул дед, разглядевши хорошенько: – что за чудища! рожи на роже, как говорится, не видно…»… На деда смех напал, когда он увидел, «как черти с собачьими мордами, на немецких ножках, вертя хвостами, увивались около ведьм, будто парни около красных девушек». Таким же представляется черт в «Ночи перед Рождеством»: «Спереди совершенно немец: узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что ни попадалось, мордочка, оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком, ноги были так тонки, что если бы такие имел яресковский голова, то он переломал бы их в первом козачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды». А когда это «животное начнет увиваться за бойкой ведьмой, ядреной бабой Солохой», то он окажется «проворнее всякого франта в чулках».
Совершенно очевидно, что в глазах народа вся эта бесовская нечисть принимает облик чуждого ему «европеизированного» сословия. Черт у Гоголя в своем «портрете» обретает далеко не безобидную социальную окрашенность. Да и пристрастия этого племени довольно откровенно соотнесены с пристрастиями «сильных мира сего». Вот дед в «Пропавшей грамоте» начал речь, обращенную к сатанинскому сборищу: «И на эту речь хоть бы слово; только одна рожа сунула горячую головню прямехонько деду в лоб». «Дед догадался: забрал в горсть все бывшие с ним деньги и кинул, словно собакам, им в середину. Как только кинул он деньги, все перед ним перемешалось, земля задрожала…»
Нет ничего удивительного в хохоте православных трудяг-наборщиков, читавших гоголевскую книгу. Понятно также их смущение при виде появившегося хозяина (фыркали в кулак исподтишка, прыскали, зажимая рот рукою). Откровенный, смелый и невиданный до того демократизм этой книги и веселил, и пугал их: такой профанации царство сильных мира сего до сих пор никем еще из русских писателей не подвергалось. Гоголь добивается такого эстетического эффекта, развивая традиции фантастической повести и добиваясь особенного искусства переплетения фантастического с реальным. У него они так спаяны, что порой трудно отличить, где кончается одно и начинается другое.
Душкин назвал «Вечера…» веселой книгой. Но его гармонический, светлый гений прошел мимо того глубокого диссонанса, который пронизывает ее. Уже в первой повести цикла финальная сцена веселья обрывается трагической нотой: «Гром, хохот, песни слышались тише и тише. Смычок умирал, слабея и теряя неясные звуки в пустоте воздуха. Еще слышалось где-то топанье, что-то похожее на ропот отдаленного моря, и скоро все стало пусто и глухо… Не так ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить веселье? В собственном эхе слышит уже он грусть и пустыню и дико внемлет ему. Не так ли резвые други бурной и вольной юности, поодиночке, один за другим, теряются по свету и оставляют, наконец, одного старинного брата их? Скучно оставленному! И тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему».
О чем говорит этот грустный финал, на что он намекает? Гоголь смотрел на историю народа как на жизнь человека. Национальная душа в истории проходит через те же возрастные фазы – юности, молодости, зрелости, старости. В книге «Вечеров…» Гоголь поэтизирует юность своего народа – безоглядную, беззаботную, воспринимающую мир как вечный праздник, как буйное и разгульное пиршество земных радостей и утех. Православная душа народа еще не доросла тут до глубокой веры, до зрелой религиозности. Она еще полна языческих суеверий и предрассудков, свойственных юности нации, но и обрекающих эту юность на трагические искушения.
Гоголь-христианин знает, конечно, чем помочь сердцу в пустыне одиночества. Но он знает также, что народ, к которому он принадлежит, обречен на неизбежные испытания, от которых никому не уберечь его, не защитить, не спасти. Радость юности – «прекрасная», но «непостоянная» гостья – «улетит от нас», улетит и от народа. Эта тема, как грозовая туча, надвигается на солнечное небо «Вечеров…», достигая кульминации в повести «Страшная месть».
Рядом с племенем поющим и пляшущим, бок о бок с ним организуется в иное, недоброе единство другое племя, темное, бесовское, угрожающее пляшущим и поющим разрушением их веселья и распадом их единства. И по мере того как крепнет это племя, обостряется в повестях Гоголя чувство времени, утверждает себя историческая тема. Во второй части «Вечеров…» она звучит отчетливо и внятно, даже обретает зримые хронологические рамки: от запорожской юности XVI-XVII веков («Страшная месть») к крепостнической современности («Иван Федорович Шпонька и его тетушка»).
Чем искушает бесовская сила находящийся в состоянии романтической юности простодушный и доверчивый народ? Набор таких соблазнов неизменен во все времена: гордыня и тщеславие, богатство и роскошь, сластолюбие и похоть да еще один сугубо национальный порок, попавший даже в летопись Нестора, – «веселие Руси есть пити».
Как только простой казак Макогоненко стал сельским головой, так и возгордился, стал важен и чванлив. На мирской сходке, или громаде, «всегда берет верх», «высылает, кого ему угодно, ровнять и гладить дорогу или копать ров». Напускает на себя угрюмость и суровость, говорит отрывисто и немного – начальствует. Потенциальные возможности перехода казацкой вольницы в самодурство и произвол подчеркнуты Гоголем и в поведении парубков: «Гуляй, козацкая голова! – говорил дюжий повеса, ударив ногою в ногу и хлопнув руками. – Что за роскошь! Что за воля! Как начнешь беситься – чудится, будто поминаешь давние годы. Любо, вольно на сердце; а душа как будто в раю. Гей, хлопцы! Гей, гуляй!»
«Рай» казацкой вольницы далеко не христианский, а скорее языческий «рай». Храбрый Данило Бурульбаш из «Страшной мести», вспоминая о славе запорожского войска, о героических временах борьбы с неверными за независимость отечества, проговаривается и о другом: «Сколько каменья шапками черпали козаки! Каких коней, Катерина, если б ты знала, каких коней мы тогда угнали!»
И когда приходит час новой битвы, когда на мгновение оживает казацкий «рай», Гоголь рисует удалой разгул довольно сложными диссонирующими красками. С одной стороны – «пошла потеха и запировал пир». Гуляют мечи, летают пули, топочут кони. В описании боя ощутим колорит древнерусской воинской повести, возникают параллели со «Словом о полку Игореве»: та же метафора пира, переносимая на бранное поле, то же уподобление ратника крестьянину-пахарю и сравнение битвы с кровавой жатвой.
Сожалеет автор «Слова…» о поступке князя Игоря, поддавшегося игре страстей, устами Святослава произносит «горькое слово, со слезами смешанное». Не свободен от древнего греха и «пир» козаческий: «…уже очищается двор, уже начали разбегаться ляхи; уже обдирают козаки с убитых золотые жупаны и богатую сбрую». Не выдерживает Гоголь, как и автор «Слова…», вторгается в повествование с лирическим увещеванием о пагубе соблазна языческим «раем»: «Руби, козак! гуляй, козак! тешь молодецкое сердце; но не заглядывайся на золотые сбруи и жупаны! топчи под ноги золото и каменья!»