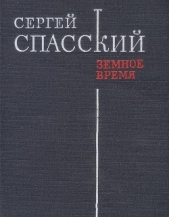Избранные статьи

Избранные статьи читать книгу онлайн
В книге представлены избранные статьи Михаила Леоновича Гаспарова.
В этом сборнике три раздела. В первый, «О стихе», включено несколько статей о предметах, мало разработанных в нашем стиховедении, или о предметах, выходящих за пределы стиховедения в общую поэтику и лингвистику. Второй раздел, «О стихах», — это прежде всего упражнения по монографическому анализу отдельных стихотворений; жанр, модный в недавнее время. Третий раздел, «О поэтах», — это, за исключением первой заметки, статьи, писавшиеся как предисловия к изданиям стихов русских и латинских писателей.
Статьи, вошедшие в этот сборник, писались на протяжении 25 лет. Здесь они помещены почти без переработки: только в двух сделаны небольшие дополнения.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Все эти теории (кроме разве самых ранних) почти правдоподобны, но ни одна из них не убедительна до конца. Гипотезе о Юлии мешают слова Овидия, что он не нарушал никакого закона — стало быть, и закона о прелюбодеянии. Гипотезе об Агриппе — слова о том, у то он не повинен ни в мятеже, ни в заговоре. Нарушение таинств государственной властью не наказывалось, а участие в гаданиях нельзя было назвать «случайным». Наконец, если даже Овидий «сам не знал» своей вины, то какие-то догадки («зачем я что-то видел?») у него, несомненно, были. Все гипотезы до сих пор имеют своих сторонников и противников, каждый волен выбирать любую из них. Думается, что все же наибольшего предпочтения заслуживает последняя. Ибо только она разрешает, по крайней мере психологическую, загадку: если вину Овидия нельзя назвать, то зачем так часто о ней упоминать, зачем бередить обиду в императоре? Только затем, чтобы как-то самому догадаться об этой вине и проверить свои догадки. А направление догадок напрашивалось само собой: преступление, о котором люди чаще всего не думают, но которое тем не менее наказуется, — это недонесение; и Овидий ищет свою вину («что-то видел…») именно здесь.
Как бы то ни было, важно помнить одно. Настоящей причиной ссылки Овидия была необходимость отвлечь общественное внимание от скандала в императорском семействе; «Наука любви» была лишь предлогом; а таинственный «проступок» — лишь, так сказать, предлогом предлога. Поэтому напрасны недоумения, смущавшие юридически мысливших филологов прошлого века: если Овидий был не так уж виноват, то почему он был так тяжко наказан? А если Овидий слишком много знал, то почему его сослали, а не убили, чтобы заставить замолчать? Наказание Овидия было предрешено заранее: не кара подыскивалась, к вине, а к каре вина. А не убили Овидия потому, что Августу нужен был не молчащий поэт, а говорящий, кающийся и славословящий. Этого он добился: десять книг, написанных Овидием в ссылке, — перед нами.
Суровое и непонятное наказание обрушилось на Овидия врасплох. Для счастливого поэта, баловня столичного общества, ссылка «на край земли» была катастрофой. Овидий считал себя погибшим. Он пытайся покончить с собой — его с трудом удержали друзья. Он в отчаянии бросил в огонь почти законченные «Метаморфозы» (С. I, 7), и поэму удалось потом восстановить лишь по спискам, оставшимся у друзей. Книги его были изъяты из библиотек (С. III, 1), приятели отшатнулись (С. I, 5 и др.), денежные дела запутались (С. I, 6), рабы были неверны (С. IV, 10, 101); свой отъезд из Рима он изображает в самых трагических красках (С. I, 3). Был декабрь 8 г. н. э., зимнее плавание но Средиземному морю было опасно, корабль чуть не погиб в буре (С. I, 2); Овидий переждал зиму в Греции, на новом корабле достиг Фракии (С. I, 10), по суше добрался до Черноморского побережья и весной 9 г. достиг места своей ссылки.
Томы были маленьким греческим городком, всего лишь лет тридцать назад окончательно принятым под римский протекторат (С. II, 199–200). Власть провинциальных наместников сюда еще не распространялась: город входил в состав фракийского царства одрисов, которым правили два царя, римские вассалы Реметалк и Котис (П. II, 9). По-латыни в городе не говорил никто: большинство горожан составляли геты и сарматы, буйные и драчливые, меньшинство — греки, давно перенявшие и варварский выговор, и варварскую одежду (С. V, 7 и 10). Климат был суров — суровее, чем теперь: каждую зиму Дунай покрывался твердым льдом (С. III, 10). За Дунаем жили геты и сарматы, уже не подвластные фракийскому царству, кочевые и полукочевые; при каждом удобном случае они нападали, опустошали окрестность, подступали к самым стенам Томов, и стрелы их падали на городские улицы (С. III, 10, V, 10). Связь с остальным миром едва поддерживалась: только летом греческие корабли приносили слухи о том, что происходило в Риме и провинциях. Словом, трудно было найти большую противоположность тому миру светского изящества и обходительности, в котором Овидий прожил всю свою жизнь.
Еще по дороге в ссылку Овидию случилось пережить неожиданное: во время бури в Ионийском море, когда кораблю грозила гибель, он поймал себя на том, что в голове его опять складываются стихи (С. I, 11). Он был так уверен, что в разлуке с Римом поэзия для него совершенно невозможна, что это ощущение поразило его как чудо (С. III, 2, 5–16). С этих пор поэзия становится для него единственной душевной опорой. За считанные месяцы пути он пишет подряд десять элегий и, уже подплывая к Томам, торопливо дописывает двенадцатую, чтобы с тем же кораблем послать их в Рим, — это была его I книга «Скорбных элегий». Едва устроившись в Томах, он принимается писать длинное, до мелочей продуманное стихотворное послание к Августу с покаянием, самооправданием и мольбой о снисхождении — оно составило вторую книгу «Скорбных элегий». После этого он пишет по книге ежегодно, стараясь закончить работу к весне, чтобы с летней навигацией отправить сочинение в Рим: так в 10, 11 и 12 гг. н. э. были закончены III, IV и V книги «Скорбных элегий». Но в них входило еще не все, написанное Овидием за эти годы. Хотя эти элегии часто написаны в форме посланий, но адресаты в них не названы: поэт боялся навлечь на друзей неприятности (С. IV, 3). Послания с именными обращениями он не включал в книги и отправлял адресатам с отдельными оказиями. Лишь по окончании пяти книг «Скорбных элегий», уверясь в том, что друзья в безопасности, в 13 г. Овидий собрал эти послания в трех книгах и опубликовал их как бы в виде приложения под заглавием «Письма с Понта» (IV книга «Писем» была собрана и издана уже посмертно). Наконец, одновременно с этими «книгами к друзьям» была сочинена, по-видимому, и «книга к врагу» — поэма-инвектива «Ибис». Так составились десять последних книг Овидия, результат его творчества в ссылке.
У филологов прошлого эти сочинения всегда были не в чести. Они считались хуже его ранних любовных стихов и тем более «Метаморфоз». Овидию-человеку вменялось в вину малодушие и лесть его молений о помиловании, Овидию-поэту — обилие общих мест и повторений. Оба упрека были несправедливы, оба рождены самоуверенностью кабинетного вкуса. Укорять ссыльного малодушием позволительно только тому, кто сам испытал страдания ссылки, — и недаром не кто иной, как Пушкин, сам живший ссыльным почти в тех же местах, счел своим долгом заступиться за Овидия. «Книга Tristium не заслуживала такого строгого осуждения… Героиды, элегии любовные и самая поэма Ars amandi, мнимая причина его изгнания, уступают „Элегиям Понтийским“. В сих последних более истинного чувства, более простодушия, более индивидуальности и менее холодного остроумия… Благодарим г. Теплякова за то, что он не ищет блистать душевной твердостию на счет бедного изгнанника, а с живостию заступается за него» [172]. А укорять поэта в том, что стихи его — не крик растерзанной души, а продуманное художественное построение, — значит эгоцентрически требовать романтических вкусов XIX в. от всех времен и народов; и недаром эта наивность стала колебаться на рубеже XX в. с его новыми вкусами. «Ни о крае, ни о душе поэта мы многого из этих поэм не узнаем. Это — и не „Записки из Мертвого дома“ и не „De profundis“: это — нечто чисто овидиевское. Современному читателю трудно вдуматься в эту психологию, но факт остается фактом: Овидий стал бы сам себя презирать, если бы он написал в изгнании нечто похожее на одно из обоих только что названных замечательных произведений» [173].
Что побуждало ссыльного Овидия к поэтическому творчеству? Ближайшие, очевидные причины называет он сам: во-первых, это возможность забыться над привычным трудом (С. IV, 1 и др.); во-вторых, желание общения с оставшимися в Риме друзьями (П. III, 5 и др.); в-третьих, надежда умолить Августа о смягчении своей участи (мотив, присутствующий почти в каждом стихотворении). Но были и более глубокие причины, которых Овидий не называет именно потому, что они для него настолько органичны, что он их не чувствует. Это его отношение к миру и его отношение к слову.