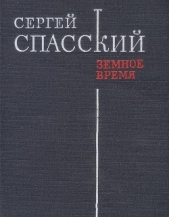Избранные статьи

Избранные статьи читать книгу онлайн
В книге представлены избранные статьи Михаила Леоновича Гаспарова.
В этом сборнике три раздела. В первый, «О стихе», включено несколько статей о предметах, мало разработанных в нашем стиховедении, или о предметах, выходящих за пределы стиховедения в общую поэтику и лингвистику. Второй раздел, «О стихах», — это прежде всего упражнения по монографическому анализу отдельных стихотворений; жанр, модный в недавнее время. Третий раздел, «О поэтах», — это, за исключением первой заметки, статьи, писавшиеся как предисловия к изданиям стихов русских и латинских писателей.
Статьи, вошедшие в этот сборник, писались на протяжении 25 лет. Здесь они помещены почти без переработки: только в двух сделаны небольшие дополнения.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Разрыв с официальной культурой не означал для Мандельштама разрыва с временем, он означал разорванность времени. Не он один, а все современники потеряли общность: «Мы живем, под собою не чуя страны, наши речи на десять шагов не слышны», — будет сказано в эпиграмме на Сталина. Все несут за это общую вину: «Я и сам ведь такой же, кума», — говорит герой Мандельштама, против воли принимая людоедское угощение от шестипалой Неправды (шестипалость — тоже намек на Сталина). Избранная им роль отщепенца — не уникальна: такими же изгоями были разночинцы середины прошлого века, начиная со «старейшего комсомольца, Акакия Акакиевича» (и таким же разночинцем в своем веке был Данте, утверждает Мандельштам). Он чувствует себя их наследником и говорит с ними «мы»: «Чур, не просить, не жаловаться! Цыц! Не хныкать — для того ли разночинцы рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал? Мы умрем, как пехотинцы, но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи» (в подтексте здесь — свое собственное «Прославим, братья, сумерки свободы…»).
Выпав из одной традиции, хозяев культуры, Мандельштам попадает в другую традицию, хранителей чести и совести. Он вынужден объясниться, и делает это в двух программных стихотворениях, очень ясном и очень темном. Первое — «С миром державным я был лишь ребячески связан…» Поначалу это — почти парафраз «Шума времени»: «я не буржуа, я маргинал старого мира: принадлежать его культуре — не значит принадлежать его привилегированному классу». Но последняя строфа (над которой Мандельштам долго колебался) переосмысливает сказанное. В ней вспоминается теннисоновская «лэди Годива» на детской картинке — чтобы избавить свой народ от невыносимой подати, она по уговору проехала нагая через целый город: вот так и поэт отдает себя в жертву за людей, к которым он не принадлежит. Второе стихотворение [152]:
Обращено стихотворение, вероятнее всего, к русскому языку. Сквозной образ стихотворения — колодезные срубы: в первой строфе на дне их светится звезда совести (образ из Бодлера), во второй расовые враги топят в них классовых врагов, в третьей они похожи на сложенные городки, по которым бьют. Это значит: если в предыдущем стихотворении поэт жертвовал себя за класс, которому он чужой, то в этом он принимает на себя смертные грехи народа, которому он чужой. Кончается оно двусмысленно: поэт обещает найти топорище (не обух!) то ли на казнь врагу, то ли самому себе. Мы видим, что отношение поэта к отвергнутому современному миру сложнее, чем кажется с первого взгляда.
То же относится даже к такому знаменитому стихотворению, как «За гремучую доблесть грядущих веков…», где старый век — волк, новый — волкодав, и герой как бы говорит веку-волкодаву: «ради общего будущего я лишился и прошлого и настоящего, однако я не волк старого века, и меня не убить». Дело в том, что эти слова принадлежат «чужому голосу». Осознанный ритмический подтекст стихотворения — Надсон («Пусть неправда и зло полновластно царят…»); в черновиках оно было вложено в уста то ли вождю революции, то ли его антагонисту и перебивалось другим голосом: «Я трамвайная вишенка страшной поры и не знаю, зачем я живу…» (потом второй голос выделился в самостоятельное стихотворение); а последняя строчка в нем четыре года звучала «…и неправдой искривлен мой рот» — шестипалой надсоновской неправдой. Это было бы неважно, если бы сам Мандельштам не настаивал на том, что в тексте сохраняется «энергетика» черновиков — их лавирование между противоположными направлениями мысли («Разговор о Данте»), Революционный фон многоголосья опирается здесь на поэму Хлебникова «Настоящее», образ волкодава пришел из первой песни Данте, а слова «шапку в рукав» — спор с Пастернаком, у которого упоминается «рифма —…гардеробный номерок» как бы не для участника, а для постороннего зрителя истории. Техника реминисценций и подтекстов в новой поэтике Мандельштама ничуть не менее искусна и сложна, чем в старой.
Стихи о веке-волкодаве — это как бы отпор собственному стихотворению «Век»: в «Веке» новый век был нежным жертвенным ягненком, теперь он стал хищным волкодавом. Такой спор со своим же прошлым звучит у Мандельштама на каждом шагу. Акмеистическая вещность комфортного мира превращается в иронический каталог «Я пью за военные астры, за все, чем корили меня…» [153]. Вместо «Нет, никогда ничей я не был современник…» (и далее — аллегорические образы) он пишет: «Пора вам знать, я тоже современник, я человек эпохи Москвошвея — … попробуйте меня от века оторвать!» Камень в первой книге был мертвой твердостью и тяжестью — теперь это сгусток динамики, «импрессионистический дневник погоды, накопленный миллионами лихолетий». А на смену бесплотной музыкальности «Тристий» приходят вещественные, ощутимые, часто грубые образы, наметившиеся еще в стихах про соль и совесть, холст и правду. Вместо «слово» он говорит теперь «губы» или «рот», вместо «туман и тишина» — «земля и глина», вместо «человек» — «люди» и «страна»; вместо «блаженный» — «хороший», вместо «тяжелый» и «прозрачный» — «жирный» и «кривой». Являются научные слова и понятия, обычно из геологии и биологии («Вас, держатели могучих акций гнейса…», «Иль ящерицы теменной глазок»). Целое стихотворение «Канцона» посвящено остроте зрения (ср. «покуда глаз — хрусталик кравчей птицы»), а другое, «Нет, не мигрень…» — всем пяти чувствам: «мокрая шепоть», «мягкая копоть», «сиреневый пожар», «рыжая земля», «пахнет… смолою да… ворванью», «свист разрываемой марли да рокот гитары карболовой». Как бы программой эта новая чувственность выплескивается в прозе на последней странице «Путешествия в Армению», где пленному царю в темнице перед смертью дают в дар один день, «полный слышания, вкуса и обоняния». Вместо общечеловеческого — человечное, вместо абстрактного — конкретное, вместо духовного — телесное, — так определяет новую образность Мандельштама современный исследователь [154]. А носителем этого ощущения и осмысления мира становится четко выраженное авторское «я». Само местоимение «я» выступает в московских стихах вдвое чаще, чем когда-то в «Камне». Притом в «Камне» это «я» — стороннее и зрительское («рассеянный прохожий…»), в «Тристиях» — условное и робкое, с начала 1920-х гг. оно приобретает внутреннюю отчетливость и глубину, а в московских стихах получает адрес, окружение и биографию. Только такое «я» может активно противостоять действительности.
Через это «я» в новых стихах распахивается расширяющийся мир с очень четкой структурой. Стихи начались с цикла «Армения» — и она остается в них стойкой точкой отсчета. Армения — вечная: ей противопоставляется Ленинград как прошлое («Петербург! я еще не хочу умирать…») и Москва как настоящее (белые стихи 1931 г., постепенно переходящие от «буддийской» застойности к молодежной стремительности) [155]. За ними — огромная русская культура, милая домашностью и страшная стихийностью: «Стихи о русской поэзии», легко и сложно варьирующие сон онегинской Татьяны. Русской поэзии противопоставляются немецкая и итальянская [156]. Немецкая — «родная», потому что выходцами из Германии были предки Мандельштама и потому, что центральный образ стихов «К немецкой речи», бог-Нахтигаль — образ жертвенный, это соловей, своею кровью примиряющий всех птиц в ироническом стихотворении Гейне [157]. Итальянская — «чужая», потому что нововыученный язык непривычен губам и небу «мыслящего рта» («Не искушай чужих наречий…»): в новом мире Мандельштама культура стала вещественной и труднее образует единство. Тем не менее Мандельштам продолжает мечтать о синтезе культур «в одно широкое и братское лазорье» (но ироничен к официальному интернационалу, в котором в это же время «меня на турецкий язык японец какой переводит»). Синтез этот дается трудно: четыре стихотворения Петрарки, вошедшие в «Новые стихи», — это перевод не только с языка на язык, но и со стиля на стиль, с бесплотного — на вещественный. Таково развертывание мандельштамовского мира вширь; глубину же ему придает цикл философских «Восьмистиший», отколовшихся от разных стихотворений. Их сквозная тема — творческое познание действительности, а их сгущенный метафорический язык до сих пор удовлетворительно не расшифрован.