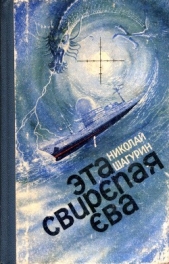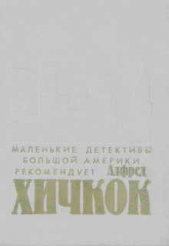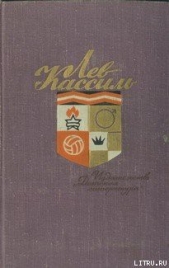Новые безделки: Сборник к 60-летию В. Э. Вацуро
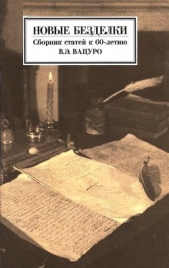
Новые безделки: Сборник к 60-летию В. Э. Вацуро читать книгу онлайн
Когда придется перечислять все, чем мы могли гордиться в миновавшую эпоху, список этот едва ли окажется особенно длинным. Но одно можно сказать уверенно: у нас была великая филология. Эта странная дисциплина, втянувшая в себя непропорциональную долю интеллектуального ресурса нации, породила людей, на глазах становящихся легендой нашего все менее филологического времени.
Вадим Эразмович Вацуро многие годы олицетворяет этос филологической науки. Безукоризненная выверенность любого суждения, вкус, столь же абсолютный, каким бывает, если верить музыкантам, слух, математическая доказательность и изящество реконструкций, изысканная щепетильность в каждой мельчайшей детали — это стиль аристократа, столь легко различимый во времена, научным аристократизмом не баловавшие и не балующие.
Научную и интеллектуальную биографию В. Э. Вацуро еще предстоит написать. Мы уверены, что она найдет свое место на страницах «Словаря выдающихся деятелей русской культуры XX века». Пока же мы хотели бы поздравить Вадима Эразмовича с днем рождения доступным для нас способом.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Мстящие евреи» и «День злодейства и мщения» Нарежного вполне органично укладываются в очерченные выше рамки массовой литературы немецкого образца. В России эту литературу знали, хотя переводили выборочно, — кажется, одну ее «разбойничью» отрасль, представленную Вульпиусом, автором знаменитого «Ринальдини», и его многочисленными подражателями. У нас нет, конечно, видимых оснований устанавливать жесткую связь между восприятием Нарежным Шиллера и его знакомством с продукцией немецкой «тривиальной» литературы [144]. Все же связь, хотя бы чисто типологическая, здесь была, и от подчеркнуто жестоких сцен и «шиллерских» монологов русского автора ощутимо веет коммерческим интересом. Это станет очевиднее из некоторых дальнейших сопоставлений.
В последние годы XVIII в., т. е. во время учебы Нарежного, в Москве существовала среда, в которой увлечение Шиллером находило поддержку и сочувствие. Принадлежность к университет могла способствовать сближению Нарежного с такими, не изолированными друг от друга, но достаточно автономными, центрами русского шиллеризма, как кружки Н. Н. Сандунова и Андрея Тургенева. Общение Нарежного в студенческие годы с Сандуновым, драматургом, переводчиком «Разбойников», братом известного московского актера Силы Сандунова, и, соответственно, связь через него с университетским и пансионским театром можно предполагать с большой степенью вероятности: «Димитрий Самозванец» впервые игрался на сцене в 1809 г. именно в бенефис Сандуновых. Интереснее, впрочем, относящиеся к Нарежному свидетельства дневника Андрея Тургенева.
18 декабря 1799 г. Андрей Тургенев записывает в дневник:
«Вчера читал я Нареж<ного> „День мщения“. Какой вздор! Он не иное что, как бедный Шилерик; представил себе двух воришков и какого-то жидка, которые стучат себя в лоб, в грудь, божатся, ругаются, зарывают в земле, проклиная. Жалкая и никуда не годная пиеска. Никакого познания о сердце человеческом, но одно сильное желание странными и какими-то необыкновенными средствами возбудить ужас. Молитвы в конце Черномора приличны сумасшедшему. То что в Карле Мооре велико, ужасно, sublime (от положения), то тут смешно и уродливо, потому что нет тех побудительных причин, везде виден один автор, который запыхавшись гонится за Шиллером». [145]
В этой дневниковой записи, где речь идет о «Дне злодейства и мщения», характерна прежде всего уверенность, с которой проведена зависимость пьесы Нарежного от Шиллера. Основанием для нее Андрею Тургеневу служит, разумеется, стилистическая близость, потому и сходство с Шиллером заканчивается на ней же. Участники младшего тургеневского кружка «по Шиллеру» вырабатывали свой личностный и нравственный идеал — «энтузиаста» и «чувствительного человека». (Здесь, в частности лежало их расхождение в понимании «чувствительности» с более мягким и медитативным вариантом авторов-сентименталистов.) Одним из центральных предметов наблюдения и размышления Тургенева и его друзей на этом пути становился герой шиллеровской драматургии. Именно его, психологически мотивировавшего всем своим душевным складом и внутренней борьбой эмоциональную напряженность штюрмерского стиля, Андрей Тургенев и не нашел у Нарежного. Без этого в глазах Тургенева вся пьеса превращалась в пустую «погоню за Шиллером», а основной целью автора оказывалось точно подмеченное стремление «возбудить ужас».
Андрей Тургенев и Нарежный могут рассматриваться как представители двух параллельных и практически противостоящих друг другу ветвей русского «шиллеризма». В тургеневском кружке внимание сосредоточено на штюрмерском герое как воплощении личностного комплекса, противостоявшего рационализму и скептицизму, предполагавшего силу и непосредственность страстей, искренность и полноту чувства, а также на сумме морально-философских представлений, которыми этот комплекс сформирован. Этот тип восприятия Шиллера явился ответом на литературно-мировоззренческие поиски нового литературного поколения России и был продиктован тем же общеевропейским «кризисом сентименталистского рационализма», который вызвал к жизни само движение «Бури и натиска» [146]. В юношеских произведениях Нарежного, напротив, воспроизводится интерпретация штюрмерства массовым немецким романом — беспощадная эксплуатация сюжетно-стилистических эффектов на фоне полного безразличия к какой бы то ни было их идейной подоплеке. Не случайно Шиллер совершенно не заинтересовал Нарежного-поэта.
Еще один интересный пример прямого столкновения отмеченных здесь тенденций можно видеть в более позднем переводе Жуковским, некогда ближайшим другом Андрея Тургенева и деятельным участником кружка, повести популярного автора «тривиальной» литературы Файта Вебера «Святой трилиственник». Для Жуковского оказываются неприемлемыми как раз все самые характерные особенности «тривиального» романа. Он стремится как бы «облагородить» его, последовательно очищая свой перевод от неровностей и напыщенности стиля, убирая многочисленные поминания «ада», «дьяволов» и пр., картины, способные оскорбить, по его мнению, вкус читателя (например, сцены с наемным убийцей и принесенной им отрубленной головой), и перемещая центр тяжести на создание эмоциональной атмосферы и показ внутреннего мира героев [147].
Характерно в этой связи и свидетельство тургеневского дневника о споре с Нарежным по поводу окончания шиллеровских «Разбойников». Предметом разговора была сценическая переделка «Разбойников» берлинским драматургом Плюмике, в России приписывавшаяся самому Шиллеру. У Плюмике, в числе других перемен оригинального текста, в финальной сцене Швейцер убивал Карла Моора, чтобы избавить его от руки палача. Этот вариант «Разбойников» лег в основу русского перевода Н. Н. Сандунова [148]. «Перед обедом был я в ком<пании> у Мерз<лякова> и <зачеркнуто: спорил> говорил о „Разбойниках“ с Нарежным, — записывает Андрей Тургенев 12 ноября 1799 г. — Он спрашивал моего мнения, на что Шиллер в другом издании переменил конец, и утверждал, что в переводе Санд<унова> гораздо лучше, что он убит наконец Швейцером. Я думаю 1-е: что Шиллер верно имел свои хорошие причины на это и сказывал ему свое мнение, вот что я говорил ему» [149]. Далее Тургенев делает попытку психологически обосновать поступок шиллеровского героя: «Фантазия Карла Моора была во все продолжение действия сильно натянута и имела сильное действие, наконец, в конце пиесы она дошла до высочайшей степени; надобно было всему ослабнуть и опуститься. К этому присоединились поразительные бедствия; энергии души его было должно непременно быть ими подавленной, и этой минутой воспользовался Шил<лер>, чтобы кончить пиесу. В таком немом, бездейственном, мертвом отчаянии мог он принять намерение умереть от руки палача. Но и другой конец справедлив. — Все заснуло в нем от утомления и отчаяния. Швейц<ер> мог опять пробудить его своими представлениями, мог возродить в нем прежнюю гордость и — вот другой конец пиесы; но в этом случае, может быть, душа зрителя утомилась бы от частых убийств. Автор хотел предохранить от сего, и кажется прав» [150]. Для Нарежного, несомненно, имела решающее значение сценическая эффектность заключительного убийства, и с этой точки зрения он не случайно отдавал предпочтение финалу Плюмике. Тем более, что, как показывает собственное творчество Нарежного, он не боялся «утомить» душу зрителя и читателя лишней кровавой сценой.
В первых своих «шиллерианских» произведениях Нарежный обошел вниманием ту сторону немецкого романа, которая была связана с таинственно-ужасным (unheimlich). Правда, в «Дне злодейства и мщения» появляется замок с томящимися в подземельях узниками, но в нем еще нет ни страшного, ни таинственного. Замок с его темницами, легендами, призраками входил в атрибутику «тривиального» романа, являясь в то же время, пожалуй, центральным мотивом «готической» прозы [151]. Этой области изящной словесности Нарежный отдал дань своей трагедией «Мертвый Замок», завершенной к марту 1801 г. [152] Трагедия эта до сегодняшнего дня остается неопубликованной; текст ее практически не введен в научный обиход, а сведения о ней в исследовательской литературе скудны и лаконичны. Тем не менее указывалось на зависимость сюжета трагедии от шиллеровских «Разбойников», а образа центрального персонажа, маркиза Сатанелли, от немецкого «черного» романа [153]. Не был назван, однако, ближайший источник, которым на этот раз Нарежному послужило одно из самых знаменитых «готических» произведений — «Удольфские тайны» Анны Радклиф.