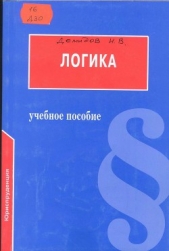Религиоведение [учебное пособие для студентов ВУЗов]
![Религиоведение [учебное пособие для студентов ВУЗов]](/uploads/posts/books/183753/183753.jpg)
Религиоведение [учебное пособие для студентов ВУЗов] читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Бог выступает как нечто, стоящее «по ту сторону от всякой социальности» и субъективности, как то абсолютное, где изначально существует напряженность между «добром» и «злом», что и позволяет быть «моральному отношению» в самом человеке, как «основанию всякой обязательности вообще» {727}. Гегель встречу человека с Божественным трактует как диалектический процесс, где субъективное, индивидуальное «оказывается брошенным на произвол судьбы», а сама живая встреча с Богом «отодвигается в область вымысла», заменяясь картиной «борющегося с самим собой из-за самого себя мирового духа» {728}.
Религия и философия выступают как «встреча с божественным» и «ее объективация в мышлении» — античная философия и атеизм софистов начинаются с утраты ощущения самой «встречи», оставляющей человека только с «объективациями». Религия основывается на «двойственности Я и Ты», тогда как философия — «на двойственности субъекта и объекта». «Первое вырастает из изначальной ситуации одиночки: он перед лицом сущего, которое его обнаруживает, как и одиночка обнаруживает сущее. Второе проистекает из раскола данного сосуществования на два существенно различных способа существования: первое — это бытие, действительность которого исчерпывается созерцанием и размышлением, второе же не способно ни на что, кроме как быть созерцаемым и мыслимым» {729}. Вера выступает как вступление в «обоюдность, самоувязывание себя с неким неуказуемым, неустановимым, недоказуемым и тем не менее именно в этом совместном становлении постижимом бытием, от которого все наделено смыслом» {730}.
Религия выступает как стремление к «будничному в чистом виде», к жизни как она есть. Она преодолевает исторические «маски», через смену которых осуществляется деление живой веры, самой жизни. Именно живая уникальность конкретного момента переживаемой действительности выступает как суть религии и основание ее борьбы со всеми философскими ее «выражениями» в тех или иных схемах, посягающих на «самопроизвольность таинственного», на нередуцируемость жизни к любой схеме. Здесь полностью снимается оппозиция «религиозный/мирской», ибо все мирское оказывается в каждый свой момент пронизано и одухотворено религиозным.
Религиозное высказывание — всегда только «символ» таинства, тогда как «рациональное» претендует на овладение бытием. Первое всегда несет в себе «личный характер», содержа в себе страх и любовь к божественному, тогда как второе — лишь стремление манипулировать действительностью. Рационализм и является отвлечением от конкретной обусловленности слова бытием, жизнью, воображением самих слов конечной «высшей» реальностью как таковой, забвением «предпосылочности» языка, лежащей вне самого языка {731}.
Религиозное сообщение всегда «парадокс», философское же — диалектика статической системы понятий и динамической системы проблем в объективном «мыслительном континууме», тогда как художественное — образ, где неясно его объективное содержание. Философия выступает как воля к истине, к формулировке универсальных общезначимых суждений, тогда как искусство — воля к индивидуальному, условному и «образному», метафорическому означиванию, не имеющему безусловного характера. Философия и искусство выступают как два отношения к божественному, которое они, в отличие от собственно «религии», неизбежно воспринимают «атеистически», как некое «Оно», но не «Ты», что превращает их в «молитву неверующего», в исповедание безличного бытия {732}.
Важно не то, какие именно изображения сакрального создаются людьми в зависимости от того, каковы они сами, нуждаются ли они в чувственных, телесных, художественных или абстрактных, философских, незримых «образах», но то, чтобы эти образы всегда понимались как «символы» незримого и непостижимого, а не за него самого.
Символы оказываются обладающими способностью «начинать желать стать большим, чем они есть, большим нежели знак и намек на Бога. Дело всякий раз кончается тем, что они загораживают путь к Богу, и он их покидает». Атеизм оказывается смелым и честным утверждением гибели идолов и вызовом подлинно верующим. Они должны всколыхнуться и «через обезбоженную действительность выйти на новую встречу. На пути своем они повергают изображения, которые явно не соответствуют Богу» {733}. Любовь выступает как способность человека выйти за идею Бога, ибо Бог не «Благо», не «ценность», не «истина», не «красота», не нечто схваченное в идее вообще, ибо идея не может любить человека как личность может любить другую личность, Бог же Библии, парадоксальным образом не сводясь к «Личности», любит человека, как личность может любить личность.
Хайдеггеровское понятие бытия видится им наполненным смыслом только при условии его трактовки как Бога, вне которой от него веет «чем-то непреодолимо пустым» {734}. религия от магии тем всегда и отличалась, что Безымянное само и по своей воле выходит из «тайны своей отрешенности», тогда как в магии человек превращает Его в «пучок сил», над которыми он располагает «тайным знанием и тайной властью». {735} БОГ желает нуждаться в свободном человеке, который его не заклинает, но любит.
Вне утверждения «абсолюта», «трансцендентного», человек оказывается перед целым набором иных «предпосылок» его бытия — социологических (М. Вебер), исторических (М. Хайдеггер), экзистенциальных (Ж-П. Сартр) — как философских «псевдорелигий», где почти невозможно различить «харизму» Моисея и Гитлера, ибо нет абсолютных критериев подлинности истины и ценности. Ближе к действительности ему видится позиция К. Юнга, полагающего, что «человека следует рассматривать как „психологическую функцию Бога“, а Бога как „психологическую функцию человека“» {736}. Божественное оказывается «относительным» или «отношением», всегда борющимся с тем или иным «общим» представлением о Боге, и в то же время отношением, когда Бог «присутствует в душе, открывается ей, с ней общается, но в сущности своей остается в отношении ее трансцендентным, и вместо него обращается к душе, как к единственной сфере, от которой можно ожидать того, что она несет в себе божественное» {737}.
Собственно различение «религиозного» и «этического» не следует из анализа тех или иных учений, но из самих предпосылок, которые порождают их многообразие в конкретных традициях, которые не создаются каждым «в самом себе», но существуют как значащее пространство, в которое человек вступает, стремясь решить проблему выбора в «демонической полноте возможных в данное мгновение ...манер поведения и действий». Бубер видит только две такие традиции — тождество нравственного и космического, или их противопоставление. Первое требует самосовершенствования человека в его подчинении космическому порядку, бытию как благу. Второе он связывает с уникальностью библейской традиции, где нравственные требования выступили в «искреннем, настойчивом и бережном различении справедливого и несправедливого», причем «в качестве цели народу поставлено не то, чтобы он был „благим“, но — чтобы был „святым“» {738}.
Этичность тем самым коренится в святости, а не наоборот. Не святое свято, ибо оно этично, но этичное — этично, ибо оно свято. Предварительным условием этичности было наделение человека свободой, ибо только свободный поступок может быть этичным. Христианство заменяет концепцию «святого народа» на «личную святость» и «народы принимают новую веру „не как народы, а как совокупность индивидуумов“, и если сам Иисус боролся за веру, против механической „ритуальности“ и „моральности“, лишенной направленности веры, как и другие израильские пророки, — то Церковь и ее теология оттеснили „во тьму“ „израильское таинство человека как самостоятельного партнера Бога“» {739}.