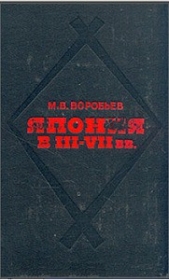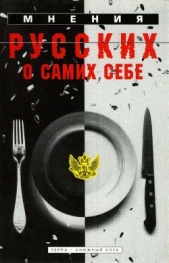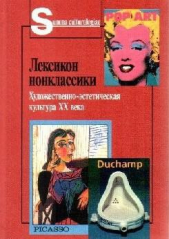Христовщина и скопчество: Фольклор и традиционная культура русских мистических сект

Христовщина и скопчество: Фольклор и традиционная культура русских мистических сект читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Проективному аспекту кровавого навета уделяется большое внимание в собственно психоаналитической историографии, хотя большинство объяснений, предлагаемых ее представителями, имеют, на мой взгляд, курьезный характер. Так, по мнению Т. Райка, легенда о ритуальном убийстве представляет собой проекцию бессознательного чувства вины, возникающего у христиан в связи с комплексом бого- и отцеубийства. «Человечество... посредством этой легенды открыто признается в старинном стремлении к деициду» [470]. Согласно М. И. Зейдену, кровавый навет также объясняется эдиповым комплексом христианской культуры, поскольку исторически иудаизм породил христианство и, соответственно, иудеи являются «отцами» христиан. Еврей, по Зейдену, это «жестокий отец, который стремится погубить своих невинных первенцев». «Таким образом, в качестве ритуального убийцы маленьких детей средневековый еврей персонифицирует и отражает бессознательный страх „первенца мужского пола“, страх ребенка, что его отец, чьим соперником он является по отношению к жене последнего (и, следовательно, его собственной матери), может однажды его кастрировать» [471]. Наконец, Э. Раппапорт видит в легенде о ритуальном убийстве своеобразную проекцию христианских представлений, связанных с доктриной пресуществления [472].
Из психоаналитических посылок исходит и Дандес, опирающийся на собственную теорию «проективной инверсии» как механизма порождения фольклорных мотивов и сюжетов. Проективная инверсия, по Дандесу, «подразумевает психологический процесс, когда А обвиняет Б в совершении действия, которое, в действительности, хочет совершить сам» [473]. Такая проекция в контексте взаимоотношений различных социальных групп и определяет, по мнению исследователя, специфику тех или иных легендарных сюжетов. Что касается легенды о ритуальном убийстве, то она, согласно Дандесу, является проекцией бессознательного чувства вины, вызываемого у христиан евхаристией и ее культурно-историческими ассоциациями. «В конце концов, римляне, а не евреи убили спасителя, и именно христиане используют его кровь в своем ритуале. Евхаристия — один из главных ритуалов христианства, и она остается таковой, неважно, верят ли, что хлеб и вино действительно превращаются в тело Иисуса Христа, или же просто напоминают о последней трапезе Иисуса. Вкушение крови и плоти спасителя представляет собой, в конечном счете, символический каннибализм. ‹...› В нормальных условиях участники евхаристии должны чувствовать вину за совершение акта каннибализма... Куда же переносится вина за этот акт? Я утверждаю, что она... проецируется на другую группу, идеальную в роли козла отпущения. Благодаря такой проективной инверсии, не мы, христиане, виновны в убийстве индивидуума с целью использования его крови для ритуальных религиозных целей (евхаристия), но, скорее, вы, евреи, повинны в убийстве индивидуума с целью использования его или ее крови для ритуальных религиозных целей — чтобы приготовить мацу» [474]. В качестве подтверждения «каннибалических» ассоциаций, вызываемых евхаристией, Дандес приводит соответствующие обвинения, выдвигавшиеся римлянами против ранних христиан (свидетельства Плиния Младшего, Минуция Феликса, Тертуллиана и др.).
Хотя подчеркиваемый Дандесом проективный аспект легенды о ритуальном убийстве представляется достаточно важным, в остальном его концепция выглядит довольно спорной. Во-первых, она, как и любая другая психоаналитическая теория, характеризуется достаточно произвольным способом определения первичных мотиваций, вызывающих к жизни то или иное «вытеснение» или «замещение» (в данном случае такой мотивацией оказывается чувство вины, якобы испытываемое христианами во время евхаристии, особенно — в контексте пасхального периода). Во-вторых, идея Дандеса совершенно не объясняет, почему легендарные формы, очень сходные с кровавым наветом, возникают и вне собственно христианского религиозного контекста. Так, например, обстоит дело с современными городскими легендами. Даже если не касаться многочисленных рассказов о кровавых ритуалах сатанистских сект (поскольку их также можно интерпретировать в качестве инвертированной проекции христианской ритуалистики), остаются легенды о трансплантации детских внутренних органов (так называемого «babyparts stories»), широко распространившиеся в странах третьего мира во второй половине 1980-х гг. [475], или современные им отечественные нарративы о «кооператорах», жарящих шашлыки из детского мяса [476]. Наконец, теория Дандеса не позволяет понять, почему в некоторых случаях (скажем, применительно к сектантам) с мотивом ритуального жертвоприношения младенцев стойко ассоциируется мотив группового совокупления и/или инцеста.
Тема каннибализма вкупе с инфантицидом имеет в европейской культуре достаточно богатую историю. В волшебной сказке и в крестьянском мифологическом нарративе каннибалами, как правило, оказываются представители потустороннего мира, более или менее отчетливо связанные с царством мертвых. Однако более широкая семиотическая и историко-литературная перспектива показывает, что тема каннибализма чаще всего используется для маркировки антисоциального или иносоциального, т. е. «чужой» культуры, «чужих» обычаев и т. п. Каннибалом зачастую изображается не столько представитель «иного» мира, сколько член «иного» социума: хотя и «чужой», но все-таки — человек. Если европейцы привычно представляют себе «черных каннибалов», то африканцы, столкнувшись с европейской цивилизацией, тоже рассказывали друг другу истории о белых людоедах [477]. В русских преданиях одним из признаков «литвы», представляемой в качестве хотя и инобытийного, но все же человеческого сообщества, оказывается ее склонность жарить на сковородках или варить маленьких детей [478]. Таким образом, темы каннибализма и инфантицида используются массовым сознанием для характеристики «чужого» социального порядка, при этом последний зачастую описывается как набор инвертированных нормативов и табу, характерных для «своей» культуры. Аналогичную роль в данном контексте играют, по-видимому, и мотивы беспорядочных сексуальных отношений, оргий и инцеста.
Представляется, что упомянутая инверсия привычных культурных стандартов является доминирующим адаптивным механизмом в фольклорном конструировании образа «чужой» социальной группы. Особую роль он приобретает, когда речь идет не просто об иносоциальном, но об инорелигиозном, о «чужой вере» [479]. При этом «подручным материалом» для создания инвертированных образов оказываются, судя по всему, культурные формы, вызывающие повышенное чувство неопределенности и тревоги. Наверное, следует согласиться с Дандесом касательно проективного значения кровавого навета, поскольку об ассоциациях причастия с каннибализмом свидетельствуют не только обвинители христианства, но и сами христиане. Средневековая христианская агиография изобилует практически однотипными повествованиями (так называемая «легенда о евхаристическом чуде») о том, как иноверец (обычно это еврей или сарацин), желая понять смысл таинства евхаристии, приходит в церковь во время причащения и видит, что священник умерщвляет маленького ребенка, разрезает его на части и подает собравшимся мясо и кровь. Увиденное чудо заставляет иноверца креститься [480]. Любопытно, что этот сюжет воспроизводился не только в христианской письменности, но и в иконографии. Для нас в этом контексте особенно показательны стенописи алтаря церкви Иоанна Предтечи в Толчкове (Ярославль, росписи 1694—1695 гг., артель иконописцев под руководством Дмитрия Григорьева), представляющие собой иллюстрации к символическому истолкованию литургии, приписываемому Григорию Богослову, а также к различным легендарным сюжетам, соотносимым с православным богослужением. На разных стенах жертвенника здесь находятся изображения двух наиболее распространенных в православной традиции вариантов сказания о евхаристическом чуде (чудо из жития Василия Великого и так называемое «видение Амфилохия»), причем во втором случае на фреске прямо изображается заклание ребенка: «В пятиглавой церкви священник в фелони совершает литургию: он стоит пред престолом и копием прободает Младенца, лежащего на дискосе; надпись: Амфилог, царь Сарацинский в Иерусалиме, пришед в церковь Божию во время Святой Литургии, виде яко священник Христа яко Младенца зарезал» [481]. В средневековой католической традиции также достаточно часто встречаются рассказы «о появлении во время причастия Христа в образе ребенка или агнца» [482]. Можно предположить, что евхаристические коннотации такого рода действительно послужили основой и для легенд о еврейском ритуальном убийстве, и для рассказов о кровавом жертвоприношении у западноевропейских и русских сектантов. Однако дело тут не столько в чувстве вины, о котором пишет Дандес, сколько в том, что эти мотивы оказались наиболее созвучными традиционным представлениям об иносоциальном и, соответственно, о том, какой может и должна быть «чужая религия». Необходимо подчеркнуть, что появление легенды о ритуальном убийстве в разных социальных, этнических и религиозных контекстах не может быть объяснено лишь миграцией сюжета или отдельных мотивов и, следовательно, здесь следует предполагать их самозарождение. Едва ли не каждый ритуал, будучи пороговой, лиминальной ситуацией, неизбежно предполагает и позитивные, и негативные эмоции его участников. Вряд ли, однако, следует полагать, что чувства тревоги, неопределенности, страха и т. п., возникающие у людей, совершающих тот или иной обряд, должны обязательно вытесняться и проецироваться вовне. В нормальной ситуации механизм снятия таких эмоций задается самой ритуальной структурой. Однако, когда речь идет об адаптации «чужих обрядов» и «чужой религии», в дело идут именно эти «ритуальные страхи».