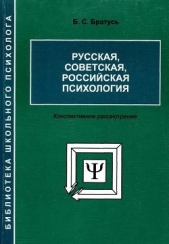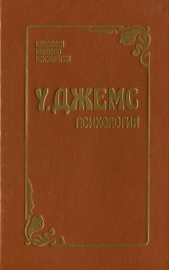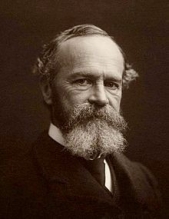Психология искусства

Психология искусства читать книгу онлайн
Книга выдающегося советского ученого Л. С. Выготского «Психология искусства» вышла первым изданием в 1965 г., вторым – в 1968 г. и завоевала всеобщее признание. В ней автор резюмирует свои работы 1915-1922 годов и вместе с тем готовит те новые психологические идеи, которые составили главный вклад Выготского в науку. «Психология искусства» является одной из фундаментальных работ, характеризующих развитие советской теории и искусства.
Книга рассчитана на специалистов – эстетиков, психологов, искусствоведов, а также на широкий круг читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
То же самое в драме «Вишневый сад». И в этой драме мы никак не можем понять, почему продажа вишневого сада является таким большим несчастьем для Раневской, может быть, она живет постоянно в этом вишневом саду, но мы узнаем, что вся жизнь ее растрачена по заграничным скитаниям и она жить в этом имении не может и никогда не могла. Может быть, продажа означает для нее разорение, но и этот мотив устранен, потому что не материальная нужда ставит ее в драматическое положение. Вишневый сад для Раневской, как и для зрителя, остается столь же немотивированным элементом драмы, как Москва для трех сестер. И вся особенность драматического построения в том и заключается, что в ткань совершенно реальных и бытовых отношений вплетается какой-то ирреальный мотив, который начинает приниматься нами также за совершенно психологически реальный мотив, и борьба этих двух несовместимых мотивов и дает то противоречие, которое необходимо должно быть разрешено в катарсисе и без которого нет искусства.
В заключение нам представляется нужным очень кратко и на полуслучайных примерах показать, что та же самая формула применима и во всех других искусствах, а не только в поэзии. Мы все время ведем наши рассуждения, исходя из конкретных примеров литературы, но все время распространяем наши выводы и на все другие области искусства. Всего ближе сюда подходит театр, так как уже рассмотрение драмы только наполовину принадлежит литературе. Однако легко показать, что и вторая половина театра, понимаемая в узком смысле – как игра актеров и спектакль, – всецело оправдывает эту формулу. Основу этого наметил Дидро в знаменитом «Парадоксе об актере» при анализе актерской игры. Он показал с предельной ясностью, что актер испытывает и изображает не только те чувства, которые испытывает действующее лицо, но расширяет эти чувства художественной формой. «Но позвольте! – возразят мне, – а эти звуки скорбные, так полные жалобы, тоски, которые мать исторгает из глубины своего существа, которые с такою силою потрясают мою душу, разве их дает не подлинное чувство, их вызывает не отчаяние? Нисколько. И вот доказательство: они, эти звуки, – размеренные, они входят составною частью в систему декламации – будь они хоть на двадцатую долю четверти тона ниже и выше, они уже были бы фальшивы; они подчинены некоему закону единства; они определенным образом подобраны и гармонически размещены; они содействуют разрешению определенно поставленной задачи… Он знает с совершенною точностью, в какой момент вынет платок и когда потекут у него слезы; ждите их при определенном слове, на определенном слоге, не раньше, не позднее» (47, с. 9). И актерское творчество называет он патетической гримасой, великолепным обезьянством. Это утверждение парадоксально только в одном, оно было бы верно, если бы мы сказали, что крик отчаяния матери на сцене, конечно, заключает в себе и подлинное отчаяние. Но не в этом торжество актера: торжество актера, конечно, в том размере, какой он придает этому отчаянию. Дело здесь вовсе не в том, чтобы задача эстетики сводилась, как шутил Толстой, к требованию, «чтобы писали казнь и чтобы было как цветочки». Казнь и на сцене остается казнью, а не цветочками, отчаяние остается отчаянием, но оно разрешено через художественное действие формы, и поэтому очень может быть, что актер не испытывает до конца и сполна тех чувств, которые испытывает изображаемое им лицо. Дидро приводит замечательный рассказ: «Мне очень хочется рассказать вам, как актер и его жена, ненавидевшие друг друга, вели на театре сцену нежных и страстных любовников; никогда еще оба эти актера не казались такими сильными в своих ролях, вызвали сценою долгие рукоплескания партера и лож; десять раз прерывали мы эту сцену аплодисментами, криками восхищения» (47, с. 18). И дальше Дидро приводит длинный диалог, в котором актеры по пьесе обмениваются репликами, полными любви, а шепотом про себя бранью и упреками. Как говорит итальянская пословица: если это и неверно, то зато это хорошо выдумано. И для психологии искусства это имеет то существенное значение, что указывает на двойственность всякой актерской эмоции, и Дидро совершенно прав, когда говорит, что актер, кончая играть, не сохраняет в своей душе ни одного из тех чувств, которые он изображал, их уносят с собой зрители. К сожалению, до сих пор на это утверждение принято смотреть как на парадокс, и ни одно достаточно обстоятельное исследование не вскрыло психологии актерской игры, хотя в этой области психология искусства гораздо легче могла бы справиться с задачей, чем во всех остальных. Однако есть все основания полагать заранее, что это исследование независимо от своих результатов подтвердило бы ту основную двойственность актерской эмоции, на которую указывает Дидро и которая, как нам кажется, дает право распространить и на театр формулу катарсиса {70}.
В области живописи удобнее всего показать действие этого закона на том стилистическом различии, которое существует между живописью в собственном смысле слова и искусством рисунка или графикой. Со времен исследования Клингера это различие сознается всеми с достаточной ясностью. Вслед за Христиансеном мы склонны видеть это различие в различном толковании пространства в живописи и в графике: в то время как живопись уничтожает плоский характер картины и заставляет нас все помещенное на плоскости воспринимать в пространственно перетолкованном виде, – рисунок, изображая даже трехмерное пространство, сохраняет при этом плоский характер листка, на который нанесен рисунок. Таким образом, впечатление от рисунка у нас всегда двойственное. Мы воспринимаем, с одной стороны, изображенное в нем как трехмерное, с другой стороны, мы воспринимаем игру линий на плоскости, и именно в этой двойственности заключена особенность графики как искусства. Уже Клингер показал, что графика в противоположность живописи очень охотно пользуется впечатлениями дисгармонии, ужаса, отвращения и что они имеют положительное значение для графики. Он указывает, что в поэзии, драме и музыке позволительны и даже необходимы такие моменты. Христиансен совершенно правильно разъясняет, что возможность привнесения таких впечатлений заключается в том, что ужас, исходящий от предмета изображения, разрешается в катарсисе формы. «Должно произойти преодоление диссонанса, разрешение и примирение. Я хотел бы сказать катарсис, если бы прекрасное слово Аристотеля не сделалось непонятным от множества попыток его истолкования. Впечатление страшного должно найти свое разрешение и очищение в моменте дионисийского подъема, ужас не изображается ради него самого, но как импульс для его преодоления… И этот отвлекающий момент должен обозначать одновременно и преодоление и катарсис» (124, с. 249), Эта возможность катарсиса в ценностях форм иллюстрируется на примере рисунка Поллайоло «Борьба мужчин», «где ужас смерти без остатка превзойден и растворен в дионисийском ликовании ритмических линий» (124, с. 249).
Наконец, самый беглый взгляд на скульптуру и архитектуру легко покажет нам, что и здесь противоположность материала и формы часто оказывается исходной точкой для художественного впечатления. Вспомним, что скульптура пользуется почти исключительно для изображения человеческого и животного тела металлом и мрамором, материалами, казалось бы наименее подходящими для того, чтобы изображать живое тело, тогда как пластические и мягкие материалы были бы лучше способны передать его. И в этой неподвижности материала художник видит лучшее условие для отталкивания и для создания живой фигуры.
И знаменитый Лаокоон, который кричит в размалеванной скульптуре, есть лучшая иллюстрация той противоположности форм и материала, из которой исходит скульптура.
То же самое показывает пример готической архитектуры. Нам кажется замечательным тот факт, что художник заставляет камень принимать растительные формы, ветвиться, передавать лист и розу; нам кажется удивительным и то, что в готическом храме, где ощущение массивности материала доведено до максимума, художник дает торжествующую вертикаль и добивается того поразительного эффекта, что храм весь стремится кверху, весь изображает порыв и полет ввысь и самая легкость, воздушность и прозрачность, которую архитектурное искусство извлекает в готике из тяжелого и косного камня, кажется лучшим подтверждением этой мысли.