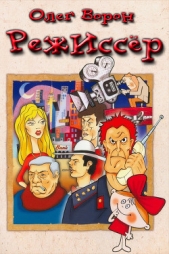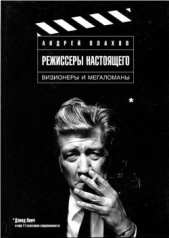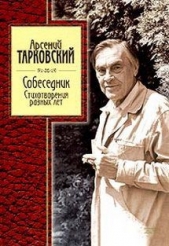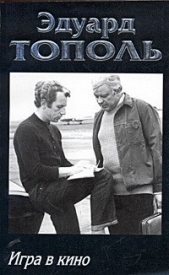Секс в кино и литературе

Секс в кино и литературе читать книгу онлайн
Как обеспечить стабильность и безотказность половой функции? Как овладеть искусством любовной игры?
В чём сущность любви? Какие критерии позволяют отличить её от любых иных чувств и мотиваций в сексуальных взаимоотношениях?
Каковы печали и радости людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как они отражены в кино и в литературе (включая научную фантастику и жанр фэнтэзи)? Как избавиться от невротических расстройств, словно тень сопровождающих девиации?
Как выглядят в свете искусства половые извращения – садомазохизм и педофилия? Что помогает подавлять опасные и преступные сексуальные желания, не позволив им реализоваться?
Михаил Бейлькин обсуждает эти серьёзные и сложные проблемы, анализируя творчество знаменитых писателей, а также фильмы, снятые либо по их романам, либо по сценариям, не связанным с художественной литературой.
В книге раскрываются загадки знаменитой “Лолиты” – что Владимир Набоков хотел сказать в ней читателю? Что собирался скрыть? О чём не догадывался и сам автор романа?
Гениальные фильмы – “Солярис” Андрея Тарковского, “Смерть в Венеции” Лукино Висконти, “Последнее танго в Париже” Бернардо Бертолуччи и “Заводной апельсин” Стэнли Кубрика – о чём они?
Обсуждение этих проблем – захватывающе увлекательный экскурс в область психологии секса, в мир любовных переживаний и приключений.
“Секс в кино и литературе” – шестая по счёту и самая интересная из книг, написанных врачом-сексологом.
Она предназначена для взрослого читателя. Отзывы и замечания по её поводу присылайте на сайт sexolog-ru.narod.ru, а также по e-mail: [email protected] или [email protected]
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Она увидела его ещё один только раз. Он шёл по студенческому городку с этой своей приятельницей Гертой – долговязой, нескладной девицей в очках с толстыми стёклами. Повиснув на руке у Гомера, Герта вся сотрясалась от нелепо пронзительного хохота, и хоть его было слышно за несколько кварталов, смех этот был не похож на настоящий.
В августе Майра и Керк поженились. <…> Они жили в малогабаритной квартирке и были умеренно счастливы. Теперь ею редко овладевало беспокойство. И стихов она больше не писала. Жизнь казалась ей полной и без них”.
Только однажды через несколько лет после свадьбы, оставив мужу записку, что отлучилась из дома всего на пару часов, Майра на машине поехала к заветному полю. Это случилось поздней весной. “Поле было совсем такое, каким запомнилось ей. Торопливо шла она по цветам и вдруг разрыдалась, упала среди них на колени. Плакала долго, чуть ли не час, потом поднялась, тщательно отряхнула чулки и юбку. Она снова была совершенно спокойна, вполне владела собой. Майра пошла обратно к машине. Теперь она знала: больше эта нелепая выходка не повторится. Последние часы её тревожной юности остались позади”.
Последние слова рассказа – подсказка читателям: в чём, собственно, им надо искать причину той странной сердечной смуты, что прежде так мучила Майру. Теннесси Уильямс полагает, что всё дело в причудах юности, тревожно переживаемой многими людьми. В чём-то он, конечно же, прав: юность – пора мятежная и тревожная, ей свойственны и резкие перепады настроения,
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слёзы, и любовь.
Однако страхи героини рассказа, и, главное, её поведение, не вписываются в рамки обычной юношеской эмоциональной неуравновешенности. Кто скажет, какой поступок Майры логичен, а какой – нет? Когда она совершила нелепую выходку – когда поехала рыдать на поле “голубых детей”; или когда отдалась почти незнакомому юноше, а не своему жениху; или когда послала Гомеру прощальную записку, а сама вернулась к Керку?!
Кое-что проясняется, если, вопреки уверениям Теннесси Уильямса, предположить, что не сама по себе мятежная юность выбивала из колеи героиню его рассказа, а что её мучил вполне конкретный страх перед первой в её жизни половой близостью. Такое объяснение делает многие странности девушки хотя бы отчасти понятными.
Вспомним, что Майра, вопреки протестам Керка, охотно ходила на все свидания, кто бы из случайных знакомых её не позвал. Она не собиралась отдаваться никому из них, и потому эти встречи не возбуждали в ней страха, а, напротив, смягчали её нервное напряжение. Говоря на профессиональном языке сексологии, Майра всякий раз убеждалась в том, что с платоническим влечением к лицам противоположного пола у неё всё в порядке. Тем самым, девушка подавляла внутреннюю тревогу по поводу отсутствия у неё зрелого сексуального влечения и желания реализовать половую близость. Когда же она вдруг постигла суть своей проблемы, её охватило чувство счастья, переходящее в экстаз; правда, экстаз тут же сменился неукротимым нервным ознобом.
И вот, наконец, дефлорация стала свершившимся фактом. Мучительное беспокойство Майры растаяло как дым. Она превратилась в совсем иного, чем прежде, человека. Ушли, наконец, страхи и тревоги; но при этом пропал и интерес к поэзии.
Сомнений нет, предположение о возможной сексуальной природе переживаний девушки попадает точно в цель. Но, и разгадав причину её тревог и страхов, мы всё же остаёмся с массой нерешённых вопросов.
Странно, прежде всего, то, что девушка боялась не дефлорации, а половой близости как таковой, хотя, судя по всему, никакого негативного опыта по этой части у неё не было. Может быть, всё дело в усвоенных ею моральных принципах, которые ей предстояло нарушить? Или в боязни разоблачения – мол, люди “меня застукают” и осудят за аморальное поведение? На это, казалось бы, указывает содержание её страхов. Когда ноги сами несли её к месту, где она должна была расстаться со своей невинностью, девушку преследовал необычный страх. Ей чудились шаровидные головы соглядатаев, пронзительные голоса, готовые вот-вот поднять тревогу, толпы недругов, намеренных устремиться за ней в погоню. Хотя все эти страхи явно выходят за рамки юношеской неуравновешенности (и отдают паранойей), с натяжкой они могли бы быть истолкованы как боязнь осуждения со стороны окружающих. Однако если бы дело обстояло именно так, и речь шла бы лишь о внутренних запретах морального плана или о боязни прослыть среди обитателей студенческого городка развратницей, то почему бы Майре просто-напросто не отдаться на вполне законных основаниях своему собственному жениху? Тогда угрызения совести и страх перед возможным разоблачением утратили бы всякий смысл. Почему же, в таком случае, на месте Керка вдруг оказался Гомер?
Может быть, девушка внезапно влюбилась в молодого поэта? Она расслышала детский гомон в шелесте цветов и разглядела волшебство поля при лунном освещении, конечно же, подпав под его поэтические чары. Мало того, поэтический дар был не единственным и даже не главным его преимуществом перед Керком. Гомер вдруг стал для Майры воплощением мужского начала, которого, как оказалось, она в своей психосексуальной ретардации (задержке развития) до сих пор не воспринимала ни в ком, – ни в парнях, на свидание с которыми исправно ходила, ни в своём женихе. Но если дело обстоит именно так, если девушка вдруг влюбилась в Гомера, то почему же она так сразу его оставила, вернувшись к Керку? Ведь в рассказе нет ни малейшего намёка на то, что она любит своего жениха. Материальные соображения тоже не причём: оба студента одинаково бедны, но что касается поэта, то, по мнению Майры, у него, как у человека талантливого, больше перспектив, чем у Керка. Тогда зачем ей было предавать вдруг обретённую любовь? И можно ли, в таком случае, назвать её чувство любовью?
Позиция самого Теннесси Уильямса не совсем ясна. Похоже, он видит проблемы своей героини следующим образом: её тяга к поэзии, как и навязчивые страхи, были кратковременным, но мучительным проявлением юности, чем-то вроде побочного эффекта возрастного гормонального всплеска, свойственного многим людям. В этом плане вполне уместна вначале неосознанная, а затем ставшая вдруг для Майры очевидной её потребность реализовать половую близость. Словом, как уже говорилось, душевное смятение своей героини автор считает универсальным юношеским чувством. Но в эту версию не вписывается существенная деталь – странная спаянность между потребностью осуществить половую близость с мужчиной (причём, неважно, с кем!), и любовью к поэзии – к чтению и сочинению стихов. Такое сочетание частым и обычным не назовёшь.
Половая близость с Гомером осуществилась на фоне какой-то своеобразной душевной раздвоенности Майры, близкой к тому, что психиатры называют расщеплением. Обычно готовность девушки отдаться неотделима от чувства любви к своему избраннику (если она действительно влюблена, а не вступает в половую связь из любопытства или из каких-либо иных соображений). Мотивация Майры была совсем иной: реализация половой близости стала для неё самоцелью, поскольку девушка полагала, что вслед за ней придёт зрелость и её юношеские тревоги исчезнут раз и навсегда. Вспыхнувшая влюблённость в поэта оказалась при этом как нельзя кстати. Она послужила девушке своеобразным средством релаксации. Подобно тому успокаивающему эффекту, какой прежде на неё оказывало сочинение стихов, влюблённость подавила её “жгучее беспокойство” и страх.
Следовательно, в контексте рассказа, дефлорация – не столько следствие мимолётной влюблённости, длившейся от силы пару часов, сколько жертва, принесённая Майрой на алтарь её поэтической юности. Такова цена за её избавление от мучительной тревоги, непонятных страхов, неуправляемых переходов от экстатического воодушевления к неукротимой нервной дрожи. Потому-то, вернувшись к жениху, даже не слишком-то ею любимому, она поступила вполне резонно. Что же касается её запоздалого возвращения на поле “голубых детей”, его вряд ли можно счесть такой уж “нелепой выходкой” : Майра устроила поминки по ушедшей тревожной юности, ведь она навсегда прощалась со своим прежним Я.