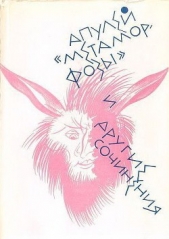Либидо, его метаморфозы и символы

Либидо, его метаморфозы и символы читать книгу онлайн
Настоящая книга - одна из самых известных в психоаналитической литературе. С данного произведения молодого еще Карла Юнга, труда одновременно классического и ревизионистского, начался его отход от фрейдовского анализа. Перевод авторизован самим Юнгом.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Поэтому бог Нагага-Уер называется также "великим гогоином". ("Книга Мертвых" 98, 2: "Я гогочу как гусь и свищу как сокол",) Кровосмесительный запрет вменяется в вину матери и считается злостным произволом с ее стороны, лишающим сына бессмертия. Бог должен по крайней мере возмутиться против такого деспотизма, должен победить и наказать мать. (Ср. выше Адама и Лилит.) Побеждение ничто иное как кровосмесительное изнасилование [442]. У Геродота [443] сохранен ценный образчик этой религиозной фантазии:
"Как они в городе Бузирисе справляют праздник Изиды, уже раньше отмечено мной. А именно: после жертвоприношения начинают драться — мужчины и женщины — многотысячная толпа. Однако того, из-за которого они дерутся, было бы грешно назвать.
В Папремисе же они приносят жертвы со священнодействиями, как и в других местах. Но когда солнце начинает склоняться на запад, лишь несколько священников еще продолжают священнодействовать вокруг изображения божества; большинство же их стоит с деревянными дубинами у входа; а те, что хотят дать обет, более тысячи человек, также с деревянными дубинами в руках толпятся против них. Накануне они вывзят изображение в маленьком позолоченном храме и перевозят его в другое святилище. И те немногие, что остаются возле изображения, везут четырехколесную колесницу, на которой стоит храм со скрытым в нем изображением божества. Другие же. что стоят в притворе, не впускают их; однако те, которым предстоит дать обет, защитники бога, наступают на них и побоями их отгоняют. Тогда начинается жаркая драка, во время которой они разбивают друг другу головы и многие, думается мне, умирают от ран — хотя сами египтяне утверждают, что ни один не умирает.
Туземцы утверждают, что ввели эти праздничные скопища затем, что в этом святилище обитает мать Арея [444], Арея же [445] воспитывали вне родных пределов; когда он возмужал, то возвратился, чтобы войти в сношение со своей матерью; но слуги его матери, еще никогда не видавшие его в лицо, не хотели впустить его к ней, а удерживали его, тогда он призвал из другого города людей, жестоко расправился со слугами и вошел к своей матери- Поэтому они утверждают, что эту драку ввели в память Арея, в дни празднества во имя его".
Ясно, что благочестивый народ дерется и убивает за свое соучастие в мистерии изнасилования матери; это их удел [446], тогда как геройское деяние принадлежит богу [447]. Веские причины говорят за то, что под этим Ареем разумеется египетский Тифон. Тифон олицетворяет недоброе, грешное томление по матери, в котором однако другие мифы упрекают мать, и это по известному нам образцу. Смерть Бальдера, последовавшая от ранения веткой омелы, представляет собой полную аналогию со смертью Озириса (болезиь Ра) и очевидно требует аналогичного объяснения. В мифе рассказывается, что всей твари запретили трогать Бальдера — забыли только о ветке омелы, потому что она была "еще слишком молода-". А она-то и сразила Бальдера. Омела — паразит. Из паразитирующих вьющихся растений выделывали "женскую" деревяшку для ритуального огнесверления; это и есть огне-матерь [448]. На "marentakken", под которым Гримм разумеет омелу, отдыхает Мара [449]. Омела была целительным средством против бесплодия. В Галлии друиды имели право взбираться на священный дуб для срезывания ритуальной омелы лишь с торжественными церемониями и после жертвоприношения. Это ничто иное как ритуально ограниченный и организованный инцест. То, что растет на дереве, есть дитя [450], которое человеку хотелось бы иметь от своей матери, ибо это дитя — он сам, обновленный, снова юный; но именно этого-то и нельзя по причине кровосмесительного запрета. По кельтическому обычаю такое священнодействие дозволено только жрецу при условии соблюдения известных священных церемоний. Но бог-герой и искупитель мира совершает недозволенное, сверхчеловеческое и тем обретает бессмертие. Читатель, конечно, уже давно догадался, что дракон, которого с этой целью приходится победить, ничто иное как противление против инцеста. Дракон и змея, особенно с харктерным для них нагромождением страшных атрибутов, являются символическими представителями страха; страх же ничто иное как вытесненное кровосмесительное желание. Поэтому вполне понятно, что мы постоянно встречаем дерево со змееа? (в раю змея даже соблазняет на грех); змея или дракон имеет особенное значение как хранитель и защитник драгоценного клада. Что дракон [451] имеет одновременно фаллическое и женское значение, указывает на то, что перед нами снова символ, сексуально нейтральной или бисексуальной libido, а именно символ libido, находящейся в состоянии противления. Такое же значение имеет в древнеперсидском гимне Тиштрийи черный конь Апаоша (демон противления), который держит под своей властью источники небесного дождевого озера. Белый конь Тиштрийя дважды напрасно порывается взять его приступом; наконец, в третий раз, с помощью Агура-Мазды, ему удается победить Апаоша. После этого хляби небесные разверзаются и плодоносный дождь проливается на землю [452]. Эта песнь, по выбору своих символов, ясно показывает нам, как одна libido противопоставляется другой, одно желание другому; мы видим внутреннее раздвоение примитивного человека, которое он переносил и на все препятствия и противодействия внешней природы.
Итак, символ дерева, обвитого змеею, следует между прочим толковать в смысле матери, защищаемой благодаря противлению против инцеста. Этот символ нередко встречается на памятниках Митры. В том же смысле следует понимать и утес обвитый змеею, ибо Митра (Мен) из утеса рожденный. Змея, угрожающая новорожденному (Митре, Геркулесу), объясняется легендой о Лилите и о Ламии. Пифон, дракон Лето и Пэна, опустошающая страну Кротопа, посланы отцом новорожденного; в этой форме мы узнаем, известное нам по психоанализу локализирование кровосмесительного страха в отце. Отец представляет собой энергичную оборону против кровосмесительных желаний сына — иными словами: преступление, которое сын бессознательно желает совершить, приписывается отцу в форме якобы злодейственного намерения, являющегося оправдывающей причиной смертельного страха перед отцом — столь частого невротического симптома. Вследствие такой формы чудовище, которое должен одолеть юный герой, является часто в виде великана, стерегущего сокровище или женщину. Меткий пример тому мы находим в эпосе Гильгамеш, в лице великана Хумбаба, стерегущего сад Иштар. Гильгамеш побеждает великана и завоевывает город, в котором живет Иштар. Иштар предлагает Гильгамешу [453] свою любовь и предъявляет к нему сексуальные требования. Я думаю, что этих данных довольно для того, чтобы понять роль Горуса, которую придает ему Плутарх — в особенности насилие над Изидой. Благодаря победе над матерью герой становится подобным солнцу — он вновь порождает самого себя. Он обретает непоборимую силу солнца, силу вечно новой юности. Опираясь на это, мы поймем и ряд изображений из мифа Митры на геддеригеймском барельефе. Прежде всего там изображено рождение Митры из дерева (из макушки); на следующем изображении он несет на себе убитого им быка; при этом бык представляет собой совокупность значений, а именно, он олицетворяет собой чудовище (подобно огромному побежденному Гильгамешом быку), отца в лице великана и опасного зверя, воплощающего собой кровосмесительный запрет, и, наконец, собственную libido героя-сына, преодоленную им личным жертвоприношением. На третьем изображении Митра поднимает руку на головной убор солнце-бога (Sol), на его светозарный венец. Это деяние прежде всего напоминает насилие Горуса над Изидой, а затаем заставляет вспомнить основную мысль христианства, по которой победившие, преодолевшие, обретут венец вечной жизни. На четвертом изображении Sol стоит на коленях перед Митрой. Два последних изображения ясно показывают нам, что Митра захватил солнечную мощь и тем самым стал властелином и над солнцем. Он победил свою "животную природу" (быка). Животное не знает кровосмесительного запрета, но человек тем и отличается от животного, что побеждает кровосмесительное желание, то есть свою животную природу. Так и Митра: принеся в жертву свою животную природу он победил свое кровосмесительное желание и, вместе с тем, преодолел и мать, то есть губительную смертоносную мать. Такое же разрешение конфликта подготовлено уже в эпосе Гильгамеш; оно выражается в формальном отречении героя от страшной Иштар. В Sacrificium mithriacurn, уже несколько аскетически окрашенном, преодоление матери не совершается больше путем архаического насилия над ней, а путем отречения, жертвы своих желаний. Примитивная мысль о возрождении путем кровосмесительного возвращения в материнскую утробу тут получила уже сильный сдвиг: человек настолько ушел вперед на пути доместикации, что мнит обрести вечную, светозарно-солнечную жизнь не через совершение инцеста, а путем жертвенного отречения от кровосмесительных желаний. Эта знаменательная метаморфоза, выявленная в мистерии Митры, достигает своего высшего свершения лишь в символе бога, распятого на кресте. За грех Адама вешают на дерево жизни [454] кровавую человеческую жертву. Первородный сын жертвует для матери своей жизнью; пригвожденный к ветвям, он умирает мучительной, позорной смертью; такого рода смерть принадлежала к самым постыдным формам казни, уготованным древним Римом лишь для наиболее гнусных преступников. Герой умирает так, как если бы он совершил самое ужасное злодеяние: и он его действительно совершает тем, что ложится на плодоносные ветви дерева жизни; но вместе с тем он и искупает свою вину предсмертной мукой. Такое проявление высшего мужества и величайшего отречения сильнее всего подавляет животную природу: поэтому в нем для всего человечества заложено чаяние великого благостного спасения, ибо только такой подвиг может искупить грех Адама.