Первичный крик
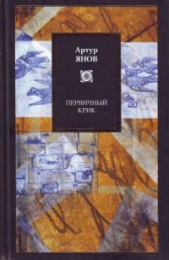
Первичный крик читать книгу онлайн
Артур Янов - один из самых известных практикующих психологов нашего времени, автор нового, революционного направления в современном психоанализе. Перу его принадлежат восемь книг, переведенных на семнадцать языков. "Первичный крик" - самое известное произведение Артура Янова, в котором он в полной мере раскрывает все аспекты своей уникальной теории "первичной терапии" - теории, послужившей основой для успешного лечения самых сложных случаев неврозов и наркотической и алкогольной зависимости.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
После легкого обеда поехал на пляж. Кажется, я бывал на этом пляже сотни раз, но теперь это были я и пляж — одновременно вместе и по отдельности. Пару миль я прошел по линии прибоя, подбирая раковины и куски топляка, утопая ногами в мокром холодном песке. Дул сильный ветер. Он продувал пальто, кожу, добираясь до костей. Какое наслаждение вдыхать этот холодный влажный ветер; он обжигал мне щеки. Не могу сказать, почему, но сегодня, на пляже, я почувствовал себя живым. Такого я не чувствовал давным–давно. Я просто ощущаю себя живым.
Теперь мне уже не так плохо одному. Я нахожу, что теперь могу сидеть один довольно долго, не испытывая никакого внутреннего беспокойства, мне стало намного интереснее то, что происходит внутри моего организма, и я могу довольно долго к нему прислушиваться. Сейчас мне уже не так сильно нужны радио или книги. Но вытерпеть это положение в течение нескольких часов я все же пока не могу. Сегодня вечером я снова один. Надеюсь, что сегодня я смогу уснуть, но, с другой стороны, будет лучше, если ночь снова будет испорчена, так как это единственный способ сделать так, чтобы в будущем мне не приходилось переживать таких плохих ночей.
Мне только что пришло в голову, что когда я кричу, моя речь вырождается в непристойности, но интересно не это; мне, на самом деле интересно, что я начинаю выражаться на английском языке городских трущоб, которым я когда‑то пользовался: любопытные междометия, фрагментированные высказывания — наполовину вопросительные, наполовину утвердительные, и сленг. Такое впечатление, что я намеренно выбираю этот язык, чтобы меня поняли те, к кому я обращаюсь. Думаю также, что речь на самом деле реальна — мне нет нужды подыскивать подходящие слова; самое верное слово сейчас — это то, которое само рвется из груди.
Только что подумал о том, что может иметь какое‑то значение: когда я переживаю первичную сцену со своими старыми знакомыми, то начинаю размахивать кулаками, стараясь дотянуться до их морд; но сегодня, представив своих братьев, я не помню, чтобы пытался их ударить. Я изо всех сил лупил кушетку, но мне кажется очень значимым, что я не хотел бить их по лицу. Кроме того, я точно помню, что не обзывал их обидными словами. И вот что еще меня донимает: когда я хочу сказать что- то старику, то начинаю жестоко бить сам себя. Я себя никогда не обижал, и поэтому меня беспокоит то, что я хочу причинить себе боль — за что? Вероятно, меня мучает чувство вины; я так сильно виноват, что сегодня целый день искал оправдания своим родителям, стараясь объяснить, что они из себя представляют или представляли раньше. Арт прав, когда говорит, что они причинили мне глубокую обиду, и это, на самом деле, так. Я знаю, что стало причиной первичной боли.
27 февраля
Эта ночь прошла не так уж плохо. Я прекрасно выспался. Не знаю, правда, хорошо или плохо это для лечения. Я был один на протяжении четырех часов с лишним, и почти не испытывал при этом никакого беспокойства. Я старался воскресить в душе первичную сцену, но единственное, чего мне удалось добиться, было несколько слезинок. Сегодняшний сеанс тоже прошел спокойно. Я не проявлял никакой склонности к насилию, как это было на протяжении трех предыдущих дней. Но я все же много кричал и размахивал кулаками в воздухе. Кажется, за последние два дня я научился устанавливать кое–какие «связи». Не знаю, должно ли так быть, но я начинаю осознавать некоторые вещи и могу теперь связать их с тем, что имеет для меня существенное значение. Сегодня не было приступов судорожного плача и рыданий, и я не чувствовал желания плакать. Когда я говорю «чувствовал», то, как мне думается, я описываю физическое побуждение, «живущее» внутри меня, и когда я даю ему овладеть мною, то оно извергается из меня как поток, который кажется мне живым в его пульсирующей непосредственности. Теперь я не стану сомневаться, не буду оспаривать тот факт, что чувствование это реальное физическое событие, происходящее внутри меня, и оно может существовать и вне меня, если я позволю себе его ощутить и излить его наружу. Странная это штука: с тех пор как я много раз ощутил свои чувства, они, вроде бы, начали наконец оставлять меня в покое. Например, сегодня у меня не было плаксивости по поводу моего одиночества, хотя во все предшествующие дни оно вызывало у меня потоки слез. Сегодня я смог просто выговорить чувство. Я немного растерян, и не могу понять, что бы это значило. Это может значить (1), что я блокировал чувство, в чем я сомневаюсь, потому что Янов бы это сразу заметил; или (2) что я могу теперь сосуществовать с чувством и при этом не плакать — если во всем этом, конечно, есть вообще какой‑то смысл. Я хочу сказать этим вот что: возьмем для примера женщину, которой из‑за рака отняли грудь; она беспрерывно плачет, испытывая подлинное глубокое горе; она соглашается на операцию, ей ампутируют грудь, но может жить с ощущением потери, потому что она знает и чувствует, в чем заключается ее боль. Думаю, что в этом есть какой‑то смысл.
Самое паршивое из всего, что произошло сегодня — это то, что мне пришлось справиться с тем фактом, что я лгал Янову. У меня сильно болел затылок и область челюстного сустава. Янов сказал, что так проявляются непрочувствованные мысли. Это было чертовски правильно: Мысль заключалась в знании того, что я лгал и сохранил в тайне свою ложь, и болью проявился отказ прочувствовать это чувство; короче от этого я и заболел. Я во всем признался (что провел ночь дома, а не в мотеле) и боль тотчас прошла — думаю через две или три минуты после того, как я сказал правду. Конечно, я ушел домой и тем, что я сделал, нарушил ход лечения. Я сделал это только из‑за денег — не хотел тратить лишнее — в точности как мой отец. Но, действительно, если окажется — после всех моих попыток ни в чем не походить на отца — что я похож на него многими чертами — больше, чем я думаю, то мне стоит злиться только на самого себя за то, что я довел себя до такого болезненного состояния. Действительно странное обстоятельство связано с этой первичной терапией — не можешь соврать психотерапевту; нет, конечно, соврать можно, но этим повредишь только себе самому, а потом все равно придется сказать правду. В конце концов, перестаешь врать. Это будет для меня большим благом, так как я почти всю свою жизнь был отъявленным лжецом, и хочу искренне хочу — наконец, остановиться.
Сегодня я был один с без четверти двух до половины шестого, а потом с шести до полуночи. Все было не так уж плохо; мне становится легче переносить одиночество; но, может быть, я просто не работаю над собой, так как мне кажется, что от этого мне придется болеть и страдать. Видимо, в этом и заключается моя беда; вероятно, я хочу себя за что‑то наказать.
1 марта
В субботу утром, во время занятий в группе я был резок, едок и вообще невыносим. Когда первый парень занялся первичной сиеной, я почувствовал себя физически плохо— желудок у меня скрутило в тугой узел, в горле пересохло; мне страшно захотелось расслабиться — этого требовал весь мой организм. Когда Янов сделал мне знак, то я испытал не страх, а какое‑то облегчение, оттого, что наступила моя очередь. Я сделал все, на что был способен, но не знаю, насколько хорошо у меня это получилось. Все это показалось мне каким‑то диким. Правда, мне кажется, что ни разу за всю свою жизнь, я не слышал столько жалоб и плача, стонов и крика, но самое странное, что все это нисколько меня не напугало, Я был внутри всего этого, я был соткан из этого. Один кричащий человек передает эстафету другому, а когда все, казалось бы, успокаивается, кто‑то начинает все сызнова, и опять все повторяется. Наконец, все кончилось без всякого сигнала: все подошло к своему естественному заключению. Это тоже уникальное свойство первичной терапии. Психотерапевт нисколько не переживает по поводу каждого вскрика или всхлипа пациента. Наоборот, он побуждает пациентов кричать и плакать. Вот Янов — он осторожно ходит между распростертыми на полу телами, мягко беседует с первым пациентом, потом еще с кем‑то рядом, подает знак своей жене — а все вокруг кричат и плачут от боли. Он же сидит себе и спокойно попивает кофе среди всего этого бардака. Я и сам не понимаю, какого черта я не хохочу над всей этой нелепостью — то, что здесь происходит, слишком нереально. Но именно тогда до меня дошло, что моя жизнь — жизнь с промытыми мозгами — она и ничто больше, заставляет меня считать происходящее нереальным. Ничто не может быть более реальным, чем вот это — сильнейшее, до боли реальное человеческое страдание. Об этом говорит мое дурацкое образование и воспитание: «Нет, не может быть, люди не кричат и не плачут. Они скрывают свои чувства, как хорошие маленькие мальчики». Итак, все это реально. После сеанса я чувствовал себя очищенным, обновленным и страшно усталым. Я не пролил так много слез, как другие; правда были и такие, кто плакал меньше. Но даже это не самое важное.


























