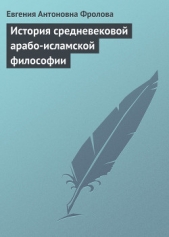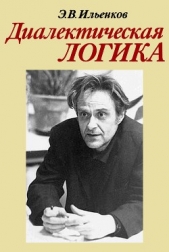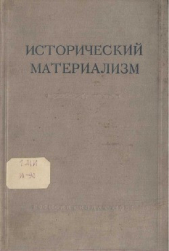Из истории советской философии: Лукач-Выготский-Ильенков
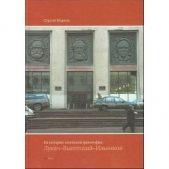
Из истории советской философии: Лукач-Выготский-Ильенков читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Здесь надо заметить, что именно эту часть программы, а именно дать критику учения Спинозы на основе самого Спинозы, Выготский выполнить не смог. Но он смог исправить мнение о Спинозе как картезианце – мнение, освященное авторитетом Куно Фишера и разделяемое большинством советских историков философии. Это мнение нашло свое отражение и в последнем советском учебнике философии под редакцией академика И.Т. Фролова, где Спиноза представлен как дуалист, то есть как философ, в существенном отношении не преодолевший Декарта [305]. Разумеется, ни какой «деятельности» у Спинозы там нет.
Выготский показывает, что в начале своего пути Спиноза действительно картезианец. Это Спиноза «Краткого трактата о Боге, человеке и его блаженстве». «В эпоху «Краткого трактата…», – пишет Выготский, – Спиноза находился в прямой зависимости от Декарта. В «Этике» он самостоятельно развил методическое обоснование аффектов и тем обнаружил полную оригинальность. Таким образом, «Краткий Трактат…» противостоит «Этике» как картезианская и оригинальная эпохи в истории развития спинозистского учения о страстях» [306].
Оригинальность Спинозы в учении о страстях, как считает Выготский, проявляется в том, что он, хотя и следует Декарту в его классификации страстей, но он не пытается дать им натуралистическое объяснение, как это имеет место у Декарта, а рассматривает их как психические явления. Иначе говоря, Спиноза отделяет психологию от физиологии, и, в этом отношении, он может рассматриваться как предтеча так называемой объяснительной психологии, в отличие от так называемой каузальной психологии. Но покинуть область физиологии – это не значит отказаться от причинного объяснения психических явлений. Спиноза не отрекается от детерминизма в объяснении свободы, и, тем самым, отказывается вступить на путь спиритуализма, что пытаются приписать ему представители описательной психологии.
В «диамате» мышление – «функция мозга», но это ничего не дает для понимания сути и содержания мышления. М.Г. Ярошевский, например, в своей книжке о Выготском утверждает, что Спиноза не мог оказать и по сути не оказал положительного влияния на творчество Выготского, потому что «философия Спинозы принадлежала другому веку – веку триумфа механистического детерминизма и бескомпромиссного рационализма – и, вопреки надежде Выготского (страстного почитателя Спинозы со студенческих лет), не могла решить проблемы, которые требовали новой методологии» [307].
Ярошевский увидел в Спинозе только механического детерминиста, потому что он смотрел на Спинозу глазами «диаматчика», так же как Б. Рассел смотрел на него глазами позитивиста. Но для позитивиста понятие субстанции вообще не имеет смысла, а потому Ярошевский и не смог понять, чем интересен Спиноза Выготскому. В Выготском, как и в Ильенкове, действительно ничего нельзя понять, если пытаться их понять не с позиций спинозизма, а с позиций «диамата». Но для Выготского с Ильенковым Спиноза бесконечно выше «диамата», потому что он понял мышление как атрибут субстанции. Именно монизм философии Спинозы составляет ее превосходство, считал Ильенков. И это то, что для плюралиста-позитивиста совершенно неприемлемо. А что для них неприемлемо, то для них «устарело».
Субстанция Спинозы должна быть понята как органическая целостность, как организм, а не как механизм. Именно поэтому Спиноза с его идеей субстанции оказался так дорог Шеллингу. Ведь Шеллинг был первым в истории последовательным антимеханистом и развивал учение об Универсуме как организме . И если бы Спиноза был только механист, то страстная любовь к нему антимеханиста Шеллинга была бы совершенно непонятной.
Трудность в том, что Спиноза не может указать иную конкретную форму детерминизма, помимо механистического. Но своим определением свободы как познанной необходимости он в общей форме такой вид детерминизма нащупывает: это детерминация целями, идеями и идеалами. При этом он предвосхищает немецкую классическую философию, которая соединит идею свободы с целесообразной человеческой деятельностью. Но сам Спиноза, как уже отмечалось, остается в рамках вопиющего противоречия между механистическим детерминизмом и свободой. Свобода в этих условиях оказывается не чем иным, как нарушением законов механики. И вопиющий характер этого противоречия проявляется у Спинозы в том, что он признает свободу и, вместе с тем, отрицает свободу воли. Получается, что есть свобода, но нету воли.
У Декарта это противоречие разрешается тем, что свобода и детерминизм принадлежат разным субстанциям – духу и материи. И надо сказать, что это любимый способ «разрешения» противоречий позитивистами ХХ века. Но Спиноза отказывается от такого способа «разрешения», и отказывается от декартовского дуализма субстанций . Он встает на путь монизма : одна и та же субстанция и простирается в пространстве, то есть является материей , и мыслит, то есть является духом , по Спинозе – Богом. Соответственно, она же и чувствует. И М.Г. Ярошевский не прав, приписывая Спинозе такой материализм, который отрицает субстанциальное значение духовного. «Первым решающим словом в этой системе, – пишет он, – был монизм. Спиноза – в противовес Декарту – провозгласил, что единственной субстанцией является природа. Тем самым он лишил психическое в любой его форме (будь то мышление, воля, сознание) субстанциального значения. Природа бесконечна. Протяжение, с которым Декарт ее идентифицировал, лишь один из ее бесчисленных атрибутов. Другой ее атрибут – мышление» [308].
Атрибут – это неотъемлемое свойство. Поэтому субстанцию нельзя лишить мышления точно так же, как ее нельзя лишить протяжения. Поэтому Спиноза и определяет субстанцию как Природу или Бога. И это тот случай, когда «или» означает: можете это называть так, а можете так, но это одно и то же. Поэтому просто сказать, что субстанция есть природа в XVII веке означало бы философию Гоббса, а не Спинозы.
Спиноза, как уже было сказано, не определяет той конкретной формы, которая соединяет «мышление» и «протяжение», дух и материю, физическое и психическое. Но он не пытается, как Декарт, соединить то и другое через физиологию, через шишковидную железу. Выготский видит в этом преимущество Спинозы и возможность оставаться на монистической точке зрения. Поэтому он сознательно критикует все попытки физиологического объяснения высших человеческих эмоций.
Физиология, ни в форме павловской рефлексологии, ни в форме реактологии Бехтерева, не может дать метода для объяснения эмоций, и прежде всего высших эмоций. «Поэтому, – заключает Выготский, – большая психология должна резко порвать с естественнонаучной, каузальной психологией и искать своего пути где-то вне и помимо ее. Для этой психологии, как говорит З. Фрейд, необходим совершенно иной подход к проблеме чувствований, чем тот, который веками складывался в официальной школьной психологии, в частности в психологии медицинской» [309].
Именно Фрейд, и именно потому, что он занимался содержанием человеческих чувств, понимал, что из физиологии не выведешь даже такого, казалось бы, примитивного чувства, как страх. «Говоря о том, что он много времени и труда посвятил изучению страха, – пишет о нем Выготский, – Фрейд отмечает, что ему не известно ничего, что было бы безразличнее для психологического понимания страха, чем знание нервного пути, по которому проходит его возбуждение» [310].
Почему один боится свою жену, а другой смертельно боится фашистов, это никакая физиология, даже самой высшей нервной деятельности, не объяснит. Здесь сама этиология совсем другого рода. Здесь детерминация лежит совсем в иной плоскости. И Выготский это в общем-то понимает. «…Невозможно допустить, – замечает он, – чтобы простое восприятие женского силуэта автоматически вызвало бесконечный ряд органических реакций, из которых могла бы родиться такая любовь, как любовь Данте к Беатриче, если не предположить заранее весь ансамбль теологических, политических, эстетических, научных идей, которые составляли сознание гениального Алигьери» [311].