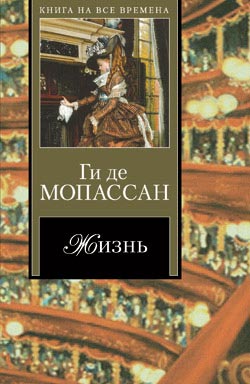Душа самоубийцы

Душа самоубийцы читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
После этих рассуждений я, возможно, удивлю читателя, заявив о глубоком убеждении, что мой неизменный интерес (почти одержимость) к проблеме самоубийства совершенно не отражает мою внутреннюю психодинамику. К изучению суицидов я «пришел» совсем случайно, — как именно, я расскажу дальше — «обнаружив» несколько сотен предсмертных записок самоубийц и интуитивно осознав их потенциальную ценность для науки и, откровенно говоря, для моей дальнейшей карьеры в психологии.
В то время, в 1949 году, я стажировался в области клинической психологии и живо интересовался тематическими проективными методиками. «Тематический апперцепционный тест (ТАТ)» Мюррея казался мне чрезвычайно изобретательным и эффективным способом сравнительно быстрого отслеживания ведущих психодинамических коллизий индивида. Под его влиянием я разработал собственную вариацию ТАТ — тест «Составь рассказ по картинкам (MAPS)» и приступил к написанию работы «Анализ тематических тестов» (Shneidman, 1951). Короче говоря, у меня присутствовал несомненный интерес к «…личным свидетельствам в психологической науке» (Allport, 1942). Документы, принадлежавшие живым людям, их дневники, письма и автобиографии имели для меня почти вуайеристическую привлекательность. По непонятным причинам Олпорт не упомянул одно из наиболее интимных личных свидетельств — предсмертные записки самоубийц.
А между тем они, являясь образцами личной документации, составляют законную часть психологической науки, и я не мог не обратить на них внимание. Мой интерес не столько касался проблемы самоубийства, сколько имел отношение к одной из основных частей моей личности: стремлению к захватывающим переживаниям, в данном случае — к увлекательной интеллектуальной деятельности. Мне кажется, что психодинамическая струна, которую затронуло обнаружение этих предсмертных записок, больше резонировала с процессом, чем с их содержанием: имелась трудная задача, и ее следовало разрешить, а именно: вырвать у записок их тайны и понять нечто важное, касавшееся их авторов. Я уверен, что если бы мне пришлось натолкнуться на тысячу дневников больных шизофренией или автобиографий гомосексуалистов, то я с не меньшим азартом окунулся бы в изучение эндогенных психозов или проблем сексуальных меньшинств, что бы об этом ни подумали окружающие. Если говорить о самоубийствах, то в сороковые годы они являлись совершенно неизученной областью. Образно выражаясь, я напоминал ковбоя, который однажды ночью, возвращаясь домой навеселе, случайно споткнулся и упал в лужу с нефтью, и при этом у него хватило трезвости распознать свое потенциальное (в моем случае, лишь интеллектуальное) богатство.
Очевидный факт моей биографии состоит в том, что смерть как таковая не слишком занимала меня до сравнительно недавнего времени (впрочем, интерес к ней естественен для любого 70-летнего человека, сохранившего здравость рассудка), и я серьезно сомневаюсь, что когда-либо был способен совершить самоубийство, тем более, что этот поступок, помимо всего остального, крайне повредил бы моей репутации суицидолога, которую мне хотелось сохранить незапятнанной. Хотя, естественно, меня глубоко интересуют как конкретные, так и философские вопросы жизни и смерти — но скажите на милость, какой же здравомыслящий супруг, отец, дед или гражданин не испытывает к ним интереса, особенно в наше ненадежное и тревожное время?
II. ВЕСНА: НА ПУТИ К СУИЦИДОЛОГИИ
Шесть лет учебы в начальных классах пролетели в приятном мелькании учительниц-мам. Ко времени перехода в среднюю школу мне исполнилось двенадцать лет. Жизнь доставляла удовольствие: она складывалась из чтения, увлечения классической музыкой (Моцарт, Бетховен и Чайковский были постоянными спутниками моей жизни, и у меня сформировались широкие музыкальные привязанности), подготовки уроков, а также постройки эскимосского каяка, который я подвесил на веревке к толстой ветке сливового дерева на заднем дворе. Мне приходилось влезать на дерево, чтобы потом спуститься в каяк и предаться чтению. Это было отличное место для умозрительных приключений: «Два года простым матросом» 6 и «Моби Дик» в каяке!
Школа Авраама Линкольна в Лос-Анджелесе начала тридцатых годов являла собой, как я сейчас полагаю, интересное с этнографической точки зрения место. В число учеников входили в основном дети иммигрантов из Италии с небольшой примесью мексиканцев и выходцев из Северной Европы, нескольких русских и горстки евреев (к каковым я и относился). Сегодня же большинство ее учеников составляют корейцы. А в те далекие дни мы даже не подозревали о существовании Кореи.
Коллектив преподавателей состоял из белых протестантов англосаксонского происхождения, во главе с директором Этель Эндрас. Сейчас я догадываюсь, что она делила всех учащихся школы на две половины: ученики из семей белых протестантов англосаксонского происхождения (в их число, очевидно по недосмотру, попал и я), которым преподавалась серьезная четырехлетняя программа подготовки для поступления в колледж (латинский язык, естественные науки, математика, английский), и все остальные, которых относили к «проходящим курс профессионального обучения», преподавая им домоводство или практический курс работы в магазине. В школе текла оживленная культурная жизнь, включая занятия в театральной студии (с ежегодными тщательно подготовленными постановками Шекспира), выпускалась ежедневная газета и работали несколько кружков по естественным наукам и языкам. Один из них вел Уолтер Поттер, преподаватель английского языка, лингвист и музыкант, специально изучавший русский язык, чтобы представить американской публике квартеты Шостаковича. Разумеется, он был социалистом, но вдобавок отличнейшим человеком, регулярно приглашавшим некоторых из нас к себе домой, где мы вели беседы о добротной «правой» литературе и «левой» политике. В целом же школа Авраама Линкольна стала неотъемлемой частью моей души.
Совершенно бессознательно в моих литературных штудиях той поры отражались смягченные теплой и принимающей атмосферой родительской семьи, но витавшие в воздухе и характерные для периода Великой депрессии мятежные веяния пролетарской прозы. Но в то же время я испытывал гораздо большее стремление к ассимиляции основных тенденций социальной жизни, преобладавших в Америке, чем к отчуждению от них. В те годы в душе я прежде всего ощущал неутомимую любознательность, нетерпение перед Временем и тревожное желание разобраться в устоях американской жизни, чтобы выбрать, каким из них я готов следовать. Чего не было в моей собственной жизни, так это ужаса, нищеты, насилия и иных трагедий, ни в коем случае не являющихся желательными, но которые, по мнению ряда людей, пробуждают в человеке силы, способствующие созреванию, интеграции и постижению своего Я, независимости и росту личности. Но я, безусловно, предпочел бы читать об Эрнесте Понтифексе из романа Сзмюэла Батлера «Путь всякой плоти» (1903) или о Стивене Дедалусе из «Портрета художника в юности» Джеймса Джойса (1916/1964), чем на деле разделить их судьбы.
У меня существует особое отношение к Джеймсу Джойсу и его alter ego — Стивену Дедалусу. «Портрет художника в юности» произвел на меня неизгладимое впечатление. Написанный в раннем, открытом пониманию и совершенно доступном стиле роман Джойса раскрывает главные дилеммы его жизни совершенно незабываемым образом: быть благополучным священником или художником-изгоем; предпочесть безопасность или свободу; жить дома или в изгнании; принадлежать Другому или Себе. Никогда до этого мне не приходилось читать об основных вариантах жизненного выбора, к тому же изложенных таким проникновенным и волнующим образом. Книга Джойса была живой, она говорила со мной о том, что мне на самом деле хотелось пережить.
Если я и порицаю в чем-то своих родителей, то лишь в том, что они создали для меня счастливое и наполненное теплом домашнего очага окружение. Они не обеспечили меня ничем, против чего можно было бы восставать. В нашей семье не приветствовался однобокий догматизм; мы во всем придерживались золотой середины. И хотя временами я отчаянно пестовал в себе страсть к мятежу, родители не снабдили меня четкой мишенью, — в лице самих себя, либо чего-то указанного извне, — против чего стоило бунтовать.