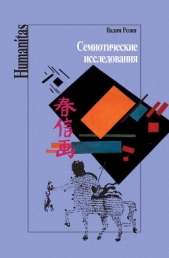Стриндберг и Ван Гог

Стриндберг и Ван Гог читать книгу онлайн
Книга К. Ясперса — уникальное «пограничное» произведение великого немецкого философа и психиатра. Это его последняя работа, которую еще с полным правом можно назвать психиатрической. Представляет собой попытку клинически достоверного описания психической болезни выдающихся деятелей культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Зайдя в кафе, Стриндберг испытывает унижение, словно он пришел просить подаяния. «Всякий раз, когда я размышляю о своей судьбе, я чувствую эту незримую руку, которая наказывает меня». «Стоит мне согрешить, и кто-то тут же застигает меня на месте преступления, а наказание осуществляется с такой пунктуальностью и изобретательностью, которые не оставляют сомнений во вмешательстве некой силы, желающей улучшения. Это неведомое сделалось моим знакомцем: я говорю с ним, я спрашиваю у него совета… и сознание того, что это неведомое меня поддерживает, дает мне энергию и уверенность». «Порвав с людьми, я возродился в каком-то другом мире, куда никто не может последовать за мной. Ни о чем не говорящие происшествия притягивают к себе мое внимание». Например, в одной витрине он видит свои инициалы; они парят на серебристо-белом облаке, над ними радуга. «Я принимаю это предвестие!»
После плохой зимы 1894–1895 годов наступает то хорошее время лета и осени 1895 года, которое он считал счастливейшим периодом своей жизни. Ему все удается. У него благочестивые мысли, его захлестывает «сумятица впечатлений, которые более или менее конденсируются в мысли». Он пишет «Silva silvarum». Этот период, подробно Стриндбергом даже не описанный, довольно быстро заканчивается срывом, и начинается время сплошного безумия, в сравнении с которым все предшествующее представляется рядом незначительных происшествий. Зима 1895–1896 годов приносит с собой изменение состояния, 1896 год — вершину психотического процесса.
НА ВЫСОТЕ ПРОЦЕССА
Отвращение к людям остается у Стриндберга неизменным даже в его хорошее время. Незначительная ссора приводит к его разрыву с маленьким обществом посетителей одной кондитерской, составлявших последний круг его общения. Он вдруг оказывается совершенно один. «Первым последствием этого было неслыханное расширение моего внутреннего самоощущения… Я возомнил себя обладающим безграничными силами, и эта заносчивость внушила мне нелепую идею попробовать, а не могу ли я сотворить чудо». Он подумывает о воздействии с расстояния на отсутствующих друзей. У него вновь возникает желание соединиться с женой и ребенком. Может быть, какая-нибудь катастрофа, какая-нибудь болезнь ребенка послужит для этого поводом? Он пробует магически воздействовать на портрет ребенка. Сразу вслед за тем у него возникает чувство «какой-то смутной неловкости», «предчувствие какого-то несчастья». На столике своего микроскопа в ростке ореха он видит две ручки, белые, как алебастр, поднятые, молитвенно сложенные и вытянутые, словно в мольбе. Его охватывает ужас. Теперь «грехопадение свершилось». Все изменяется. Его анонимный друг отступается от него. Корректурные листы «Silva silvarum» приходят к нему отпечатанные чудовищно небрежно.
В феврале 1896 года он переживает нечто новое; в первый раз преследование задевает его так непосредственно: в гостинице рядом с его комнатой оказывается сразу три пианино. Это «очевидный» заговор скандинавских дам, живущих в гостинице. Утром его будит неожиданный шум. В соседней комнате забивают гвоздь. И именно тогда, когда он после обеда хочет вздремнуть, над его альковом начинают шуметь. Он жалуется хозяину. «Тем не менее шум не прекращается, и я понимаю, что эти дамы хотят заставить меня поверить, что это стучат домовые. Какая наивность». «Одновременно изменили свое отношение ко мне и мои кондитерские знакомцы; их тайное недоброжелательство сказывается в их неискренних взглядах и коварных словах».
Бросив все свои вещи, он оставляет эту гостиницу и поселяется в отеле Орфийа (21 февраля 1896 года). В этот отель-пансионат для студентов-католиков женщины не допускаются. Он любит монастыри и их мистическую атмосферу. Но покоя не наступает, более того: «Тут начинается ряд откровений, которые я не могу объяснить, не признав вмешательства неведомых сил. С этого времени я начинаю вести записи; они постепенно накапливаются и образуют дневник, из которого я даю здесь выдержки».
Поначалу у него возникает ряд причудливых отдельных переживаний.
Он еще продолжает заниматься получением золота. Во время прогулки за городом ему бросаются в глаза нацарапанные углем на штукатурке стены буквы «F» и «S», переплетенные так, что они образуют химические символы железа и кремния. На земле лежат два клейма, соединенные бечевкой. На одном — буквы «VP», на другом — королевская корона. «Не пытаясь детальнее истолковать это приключение, я возвращаюсь в Париж с живым ощущением того, что я пережил нечто поразительное». Угли в камине образуют фантастические фигуры: группу из двух захмелевших домовых — шедевр примитивной скульптуры; «Мадонну с ребенком, в византийском стиле». «За этой игрой инертной материи и огня стоит какая-то реальность». У него не бывает видений, но в изобилии иллюзии (парейдолии): подушка выглядит, как мраморная голова в стиле Микеланджело. В полутени алькова стоит гигантский Зевс. «Это решительно не случайно, так как в определенные дни эта подушка предстает омерзительным чудовищем, каким-то готическим драконом; как-то ночью, когда я вернулся с одной попойки, он меня приветствовал, этот демон, этот настоящий черт в духе средневековья, с козлиной головой. Страха у меня не было ни разу… но впечатление чего-то аномального, как бы сверхъестественного, крепко засело в моей душе». Анютины глазки на окне смотрелись как-то так, «что это меня нервировало, и вдруг я увидел среди них множество человеческих лиц». Он видит Наполеона и его маршалов на куполе Дома инвалидов. На цинковой ванне он видит некий ландшафт, образованный испаренными солями железа.
Вечерами в кафе ему постоянно мешают. Его место занято. Какой-то пьяный разглядывает его злобным и презрительным взглядом. В дымоходе загорается сажа, и хлопья летят ему в стакан. Семейство какого-то мелкого буржуа, сидящего за соседним столиком, обступает его и шумит. Какой-то молодой человек кладет на его стол монету и этим объявляет его нищим. И пахнет там сернистым аммонием.
Пятнадцатого июня он вновь переживает небывалое впечатление: «Набережная Вольтера качается под его ногами… сегодня утром эта качка продолжалась до дворца Тюильри и улицы Оперы».
В это же время все заметнее разрастается его старый бред преследования: письма, которые он видит внизу, на конторке гостиницы, указывают на то, что здесь против него плетут интригу. На конвертах он прочитывает название австрийской деревни, в которой живет его жена, зашифрованное имя Пшибышевского, шведское имя (его врага на родине). Попадается письмо из одной химической лаборатории: «это значит, они шпионят за моим синтезом золота». Одно письмо «выставлено таким вызывающим образом, словно его показывают ему намеренно». Он спрашивает у слуги об этом зашифрованном имени и получает «дурацкий ответ, что это какой-то эльзасец».
Ему все не ясно. «Эта неопределенность, эта постоянная угроза его мести довольно измучили меня за эти шесть месяцев». Через некоторое время положение становится для него яснее. Он слышит, как под его окном играют на пианино «Порыв» Шумана. Это Пшибышевский! «Он приехал из Берлина в Париж убить меня… И за что?.. За то, что судьбе
было угодно, чтобы его нынешняя супруга до того, как он с ней познакомился, была моей любовницей». Все соседи за столиком в кондитерской своими враждебными взглядами царапают ему лицо. Он спрашивает о Поповском (псевдоним Пшибышевского в «Inferno»). Все ему говорят, что его нет в Париже. Музыка продолжается целый месяц, каждый вечер, с 4–5 часов. В Люксембургском саду он находит на земле две ветки, которые образуют буквы «Р» и «У». Это сокращение от «Przybyszewski». Незримые силы хотят его предупредить.
Это внутреннее напряжение, эти неясные ожидания нарастают. В конце июня его охватывает «новая тревога». «У меня такое ощущение, что где-то мною занимаются…» Ненависть этого П. — как Стриндберг недавно услышал, арестованного в Берлине — не может прямо настичь его в Париже, но способна пытать его, словно флюидом некой электризующей машины. В данный момент он предчувствует «какую-то новую перипетию». Первого июля он записывает: «Я жду какого-то взрыва, какого-то землетрясения, какого-то удара молнии — не знаю, с какой стороны. Нервный, как лошадь, почуявшая приближение волков, я ощущаю опасность и упаковываю мой чемодан для бегства, не способный в то же время пошевелиться». «Я жду какой-то катастрофы, но не в состоянии сказать, какой именно».