Детство и общество

Детство и общество читать книгу онлайн
В книге рассматриваются с психодинамических позиций такие вопросы, как: детство и социальная жизнь, кризис подросткового возраста, конфликт середины жизни, подведение итогов жизни и др.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
…Вот он теперь делает свой, вероятно, последний прыжок, чтобы придать своим мыслям наиболее высокое значение. Как Василий Буслаев, он вообще любил прыгать, но всегда — в сторону утверждения святости своей и поисков нимба. Это — инквизиторское, хотя учение его оправдано старой историей России и личными муками гения. Святость достигается путем любования грехами, путем порабощения воли к жизни. Люди хотят жить, а он убеждает их: это — пустяки, земная наша жизнь! Российского человека очень просто убедить в этом: он — лентяй и ничего так не любит, как отдохнуть от безделья.
…Странное впечатление производили его слова: «Мне хорошо, мне ужасно хорошо, мне слишком хорошо». И — вслед за этим тотчас же: «Пострадать бы.» Пострадать — это тоже его правда; ни на секунду не сомневаюсь, что он, полубольной еще, был бы искренне рад попасть в тюрьму, в ссылку, вообще — принять венец мученический.»
В конечном счете, он видел в изменении Толстого древнее проклятие России:
«…Он всегда расхваливал бессмертие по ту сторону жизни, но больше оно нравится ему — по эту сторону. Писатель национальный в самом истинном значении этого понятия, он воплотил в огромной душе своей все недостатки нации, все увечья, нанесенные нам пытками истории нашей; его туманная проповедь «неделания», «непротивления злу» — проповедь пассивизма, — все это нездоровое брожение старой русской крови, отравленной монгольским фанатизмом [В англ. переводе — фатализмом (fatalism), что больше соответствует контексту. — Прим. пер.] и, так сказать, химически враждебной Западу с его неустанной творческой работой. То, что называют «анархизмом Толстого», в сущности и корне своем выражает нашу славянскую антигосударственность, черту опять-таки истинно национальную, издревле данное нам в плоть стремление «разбрестись розно». Мы и по сей день отдаемся стремлению этому страстно, как вы знаете и все знают. Знают — но расползаются, и всегда по линиям наименьшего сопротивления, видят, что это пагубно, и ползут еще дальше друг от друга; эти печальные тараканьи путешествия и называются: «История России», государства, построенного едва ли не случайно, чисто механически, к удивлению большинства его честно мыслящих граждан, силами варягов, татар, остзейских немцев и околоточных надзирателей…» [Там же, с. 288–289.]
Зрителям этого фильма, пытающимся понять, для чего Алёша стал свободным, трудно избежать двух ловушек: биографической и исторической. Кажется очевидным, что Алёша — собирательный вымышленный образ — обладает большим сходством с образом самого Горького, его идеалами и той легендой, которую он, как любой великий писатель, так усердно разрабатывал, рассчитывая создать определенное впечатление. Однако принадлежавшие подлинному Горькому способы разрешения его юношеских проблем посредством творчества и невроза, лежат в стороне от нашего обсуждения.
Историческая ловушка, вероятно, кроется в неприязненном сравнении простой человечности и жизненности этой картины, ее имплицитного революционного духа с ходульной и тупой революционной «линией», ставшим привычным в отношении тех советских книг и фильмов, которые доходят до нас сейчас. За грубыми злоупотреблениями революциями со стороны тех вождей, которых они приводят к власти, мы должны искать корни революции в нуждах ведомых — и заведенных в тупик.
Значение этого фильма для нашей книги заключается в его очевидной релевантности ряду психологических тенденций, являющихся базисными для революций вообще и, особенно, для революций в тех регионах, которые стоят перед необходимостью индустриализации, хотя еще и погружены в образы древней аграрной революции. Конечно, анализируемый фильм предлагает для обсуждения лишь отдельные образы одного из таких регионов — великих русских равнин. Несмотря на то, что другие этнические районы потребовали бы рассмотрения иных или, возможно, близких образов, все-таки Россия сыграла такую же решающую и глубокую роль в коммунистической революции, какую, скажем, англосаксы сыграли в истории Америки.
Подведем итоги. Среди предлагаемых этим фильмом образов доминирующее положение занимает образ бабушки. По-видимому, она олицетворяет людей в их мистическом единстве с плотью и землей: хорошее по своей природе, но оскверненное жадностью «племя», утраченный рай. Стать или оставаться причастным к силе бабушки — означало бы капитулировать перед вечностью, попасть в вечную зависимость от веры первобытного экономического порядка. Именно эта вера заставляет первобытного человека крепко держаться за древнюю технологию и способы магического воздействия на силы природы; и она же, в свою очередь, снабжает его простым лекарством против чувства греха: проекцией. Все плохое заключено в злых силах, в духах, в проклятиях, — и либо нужно управлять ими с помощью магии, либо быть одержимым ими. Для революционера-большевика доброта бабушки уходит в далекое прошлое, во времена, когда добро и зло еще не были известны миру; и можно предположить, что ее доброта сохранится в отдаленном будущем, когда бесклассовое общество преодолеет мораль жадности и эксплуатации. В настоящем же бабушка представляет опасность. Она являет собой политическую апатию той самой вечности и детской доверчивости русского человека. А возможно, что бабушка символизирует достоинство, как недавно выяснилось, которое позволяет Кремлю выжидать, а русскому народу продолжать терпеть.
Вторая система образов, по-видимому, касается дихотомии «дерево-огонь». Дядья и другие мужчины — крепкие, плотные, грузные, неуклюжие и тупые — напоминают собой деревянные чурбаки (logs of wood), которые, однако, легко воспламеняются. Они — дрова, но они же — и огонь. Спелёнатое «полено» с его тлеющим вазомоторным бешенством, «деревянные» русские люди с их эксплозивной душой — являются ли такие образы остатками недавнего, а для России, так и вообще следами нынешнего деревянного века? Дерево служило материалом для строительства укреплений вокруг городов и топливом для раскаленных печей в долгие холодные зимы. Кроме того, оно служило основным материалом для изготовления орудий труда. Но оно таило в себе опасность быть истребленным вследствие своей горючести. Дома, деревни и деревянные орудия сгорали дотла — фатальная тенденция, если иметь ввиду, что и сами леса погибали в пожарах, уступая место степям и болотам. К каким магическим средствам прибегали люди для их спасения?
Третья система образов строится вокруг железа и стали. В фильме она представлена только образом маленького колеса для лёнькиной коляски. Мальчишки находят колесо в куче мусора, но вместо того, чтобы выручить за него деньги, они приспосабливают его в качестве детали протеза для локомоторного освобождения Лёньки. Однако, помимо этого, колесо занимает особое место среди основных изобретений человечества. Оно превосходит орудия труда, представлявшие собой простые расширители и заменители конечностей; движущееся само по себе, колесо кладется в основу идеи машины, которая, будучи созданной руками человека и им же управляемой, тем не менее развивает некоторую автономию как механический организм.
Разумеется, за пределами этого образа, сталь во многих отношениях выступает как символ нового душевного склада. Тогда как образы дерева и огня говорят о циклической личности, характеризуемой равнодушным тяжелым трудом, детской доверчивостью, внезапными вспышками пожирающей страсти и гнетущим чувством обреченности, образы стали указывают на неподкупный («нержавеющий») реализм и длительную, дисциплинированную борьбу. Ибо сталь выковывается в огне, а не горит и не разрушается в нем. Владеть сталью — значит восторжествовать над слабостью живой плоти, над смертностью и воспламеняемостью деревянной души (wood-mind). Когда сталь выкована, она кует новое поколение и новую элиту. Должно быть, именно такую коннотацию имеют, по крайней мере, «фамилии» Сталина (сталь) и Молотова (молот), да и официальное поведение, беспрерывно подчеркивающее неподкупность восприятия большевика, его зоркость, сталеподобную ясность его решений и машиноподобную твердость действий. При обороне, такое хладнокровие снова оборачивается деревянностью — или пламенной риторикой.

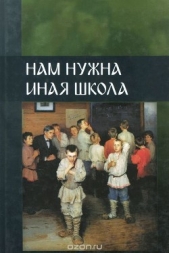


![Жизнь и приключения Робинзона Крузо [В переработке М. Толмачевой, 1923 г.]](/uploads/posts/books/27343/27343.jpg)




















