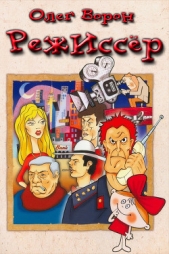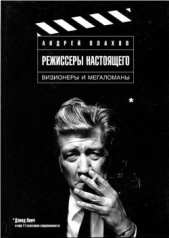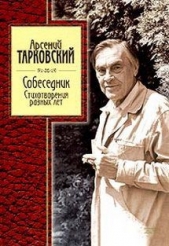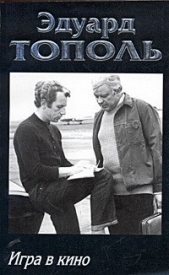Секс в кино и литературе

Секс в кино и литературе читать книгу онлайн
Как обеспечить стабильность и безотказность половой функции? Как овладеть искусством любовной игры?
В чём сущность любви? Какие критерии позволяют отличить её от любых иных чувств и мотиваций в сексуальных взаимоотношениях?
Каковы печали и радости людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как они отражены в кино и в литературе (включая научную фантастику и жанр фэнтэзи)? Как избавиться от невротических расстройств, словно тень сопровождающих девиации?
Как выглядят в свете искусства половые извращения – садомазохизм и педофилия? Что помогает подавлять опасные и преступные сексуальные желания, не позволив им реализоваться?
Михаил Бейлькин обсуждает эти серьёзные и сложные проблемы, анализируя творчество знаменитых писателей, а также фильмы, снятые либо по их романам, либо по сценариям, не связанным с художественной литературой.
В книге раскрываются загадки знаменитой “Лолиты” – что Владимир Набоков хотел сказать в ней читателю? Что собирался скрыть? О чём не догадывался и сам автор романа?
Гениальные фильмы – “Солярис” Андрея Тарковского, “Смерть в Венеции” Лукино Висконти, “Последнее танго в Париже” Бернардо Бертолуччи и “Заводной апельсин” Стэнли Кубрика – о чём они?
Обсуждение этих проблем – захватывающе увлекательный экскурс в область психологии секса, в мир любовных переживаний и приключений.
“Секс в кино и литературе” – шестая по счёту и самая интересная из книг, написанных врачом-сексологом.
Она предназначена для взрослого читателя. Отзывы и замечания по её поводу присылайте на сайт sexolog-ru.narod.ru, а также по e-mail: [email protected] или [email protected]
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Томас Манн, безмерно напуганный встречей с Моесом, по-видимому, решил раз и навсегда обезопасить себя от подобной напасти. “Смерть в Венеции” должна была стать своеобразной “прививкой”, “вакциной” против непрошенной страсти. Смерть Ашенбаха, писателя–собрата, созданного автором, задумывалась как суровое предостережение и самому себе, и всему бисексуальному миру мужчин (масштабы которого, как уже говорилось, Манн преувеличивал).
Венеция не случайно была избрана местом, где герой новеллы встретил своё роковое искушение и поплатился за него смертью. Прежде всего, писателю нужно было объяснить жене причину, по которой он, как заворожённый, следует по пятам польского мальчика: дескать, начал работу над рассказом и старательно изучает прототип своего персонажа. Кроме того, именно здесь, в Венеции, Манны получили печальную весть о смерти Малера, знакомство с которым произвело в своё время глубочайшее впечатление на писателя. Как уже говорилось, своим именем Густав и характерными особенностями внешности Ашенбах обязан покойному композитору. Наконец, Венеция стала для Томаса Манна символом трагедии ещё и потому, что когда-то холера угрожала здесь его любимому поэту графу фон Платену, певцу однополой любви. Поэт бежал из города, но “попал из огня да в полымя”: спасаясь бегством от холеры, он заразился тифом и умер.
“Профилактическая работа” автора “Смерти в Венеции” оказалась тщетной – “вакцинация против девиации” не помогла ни отцу, ни сыну; похоже, она никогда не поможет и никому из читателей знаменитой новеллы. Клаус предпочёл гомосексуальный образ жизни и безбрачие; впоследствии он покончил жизнь самоубийством. Что же касается отца, то однополые увлечения не оставляли его до конца жизни, в то время как женщины (за исключением его жены), оставляли его равнодушным.
Вот перечень гомосексуальных “сердечных смут” Томаса Манна, сделанный Игорем Коном:
“Летом 1927 года 52-летний писатель влюбился в 17-летнего Клауса Хойзера, сына своего друга, дюссельдорфского профессора-искусствоведа. Мальчик ответил взаимностью и некоторое время гостил у Маннов в Мюнхене. Несколько лет спустя писал: “Это была моя последняя и самая счастливая страсть”. 20 февраля 1942 года писатель снова возвратился в своём дневнике к этим воспоминаниям: “Ну да – я любил и был любим. Чёрные глаза, пролитые ради меня слёзы, любимые губы, которые я целовал, – всё это было, и умирая, я могу сказать себе: я тоже пережил это”.
Это увлечение не было последним. <…> 75-летнего Манна по-прежнему волнует юношеское тело: “Боже мой, как привлекательны молодые люди: их лица, даже если они наполовину красивы, их руки, их ноги”. В курортном парке он любуется силой и грацией молодого аргентинского теннисиста. <…>
Последней страстью 75-летнего писателя был 19-летний баварский кельнер Франц Вестермайер. “Постоянно думаю о нём и стараюсь найти повод для встречи, хотя это может вызвать скандал”. (8 июля 1950 г.). “Засыпаю, думая о любимом, и просыпаюсь с мыслью о нём. “Мы всё ещё болеем любовью”. Даже в 75. Ещё раз, ещё раз!” (12 июля). “Как замечательно было бы спать с ним…”(19 июля 1950 г.)” .
Но вернёмся к сути душевной катастрофы Ашенбаха. Один из ключей к её пониманию – расшифровка имён обоих героев новеллы. Тадзь, Тадеуш – польская форма имени Фадей, что в переводе с еврейского означает “похвала”. Это имя и по звучанью и по смыслу близко греческому имени Федр (“сияющий”, “радостный”). На такую аналогию указывают и постоянные ссылки автора на Платона. В памяти Ашенбаха всплывают сцены из “Федра”: “лежат двое, один уже в летах, другой ещё юноша, один урод, другой красавец, – мудрый рядом с тем, кто создан, чтобы внушать любовь. Сократ поучал Федра тоске по совершенству и добродетели. <…> Итак, красота – путь чувственности к духу, – только путь, только средство, мой маленький Федр… И тут лукавый ухаживатель высказал острую мысль: любящий-де ближе к божеству, чем любимый, ибо из этих двоих только в нём живёт бог, – претонкую мысль, от которой взялось начало всего лукавства, всего тайного сладострастия, любовной тоски”.
Если бы Тадзио был равноценен подлинному Федру (в новелле и в фильме, это действительно так), то близость с ним приобрела бы настолько возвышенный и даже мистический характер, что ей не были страшны никакие пересуды толпы. Так, по крайней мере, утверждает Платон в своём мифе. Философ пишет, что крылатые души, обитающие в идеальном прекрасном мире, обречены пасть на грешную землю, так как они со временем теряют крылья. Чем больше красоты и мудрости повидали они вблизи Бога, тем завиднее их участь после падения. “Душа, видевшая всего больше, попадает в зародыш будущего философа, преданного Музам и Эроту”. Остальные вселяются в людей по рангам, в зависимости от того, сколько воспоминаний о прекрасном они сохранили. Душа, живущая в теле каждого человека, томится по красоте, созерцаемой прежде. “Смотря на красоту юноши, она воспринимает в себе исходящие и истекающие оттуда частицы – недаром их называют влечением; впитывая их, она согревается, избавляется от муки и радуется. По доброй воле она никогда от него не откажется, её красавец для неё дороже всех: тут забывают и о матери, и о братьях, и о всех приятелях, и даже потерять по нерадению всё состояние ей всё нипочём”. Всё дело в том, что у душ тех, кто общается с красотой, вырастают крылья. “Когда юноша, допустив к себе влюблённого, вступит с ним в разговор,увидит вблизи его привязанность, – она поражает возлюбленного, который замечает, что дружба всех других его друзей и близких, вместе взятых, ничто в сравнении с любовью его одержимого богом друга.
Со временем близость их растёт от встреч; тогда то истечение, которое Зевс, влюблённый в Ганимеда, назвал влечением, обильной струёй изливаясь на влюблённого, частью проникает в него, а частью, когда он уже переполнен, вытекает наружу. Как дуновение или звук, отражённые гладкой и твёрдой поверхностью, снова несутся туда, откуда исходят, так и поток красоты снова возвращается в красавца через глаза, то есть тем путём, которым ему свойственно проникать в душу, теперь уже окрылённую, ибо он питает рост крыльев и наполняет любовью душу любимого”. Таким образом, души истинно влюблённых людей, чуткие к красоте и мудрости, вновь обретают крылья и затем возвращаются в надземный мир, идеальный и божественный.
Понятно, что с точки зрения Платона, телесная красота обретает свою подлинную ценность лишь в сочетании с умом и со способностью юноши любить мудрость и постигать её. Если Тадзио всем этим обладает, то он подлинный Федр и встреча с ним – божественный дар. Правда, чтобы реализовать его, нужно, чтобы и поклонник юноши был носителем душевной красоты и мудрости, причём, подобно Сократу, в гораздо большей мере, чем сам Федр. Увы, Манн даёт понять читателям, что Ашенбах далеко не таков. По-немецки Bach – ручей, Asche – пепел, зола. Иными словами, фамилия героя означает “ручей, засорённый золой и прахом”; она намекает на то, что масштаб его личности, в противоположность величию подлинного Баха, снижен досадными изъянами и слабостями.
Ашенбах – далеко не Сократ; он не пара подлинному Федру.
Отложим в сторону вопрос о пользе мифов, вкладываемых Платоном в уста Сократа, и о роли мифологии в творчестве самого Томаса Манна. Рассмотрим реальную сторону греческих аналогий немецкого писателя. Сократ – эталон независимого мыслителя. Своей жизнью он поплатился за пренебрежение к общепринятым догмам и предрассудкам (современники осудили философа за развращение молодёжи и казнили его). Чувство собственного достоинства не позволило бы ему пойти на сомнительные компромиссы с обывателями ни в большом, ни в малом. Вряд возможно представить, что Сократ станет маскировать свою знаменитую лысину париком, или что в заботах о телесной привлекательности он прибегнет к косметике, или что он будет избегать Федра, дабы не навлечь на себя подозрения в разврате. Ашенбах и сам не думал, не гадал, что способен на подобные унизительные ухищрения. Ему отвратителен и страшен“молодящийся старик” , его возмущает администрация гостиницы и город в целом: “Венеция больна и корыстно скрывает свою болезнь” . Всё это – враждебный ему, корыстолюбивый и лживый мир.