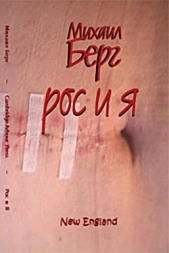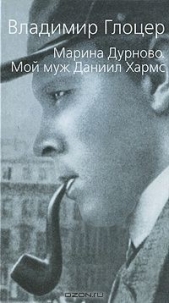Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Д.Хармса и С.Беккета

Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Д.Хармса и С.Беккета читать книгу онлайн
Даниил Хармс и Сэмюэль Бсккет ничего не знали друг о друге. Тем не менее их творчество сближается не только внешне — абсурдностью многих текстов, — но и на более глубинном уровне метафизических интуиций. Оба писателя озабочены проблемой фундаментальной алогичности мира, ощущают в нем присутствие темно-бессознательного бытия-в-себе и каждый по-своему ищут спасения от него — либо добиваясь мистического переживания заново очищенного мира, либо противопоставляя безличному вещественно-биологическому бытию проект смертельного небытия. Монография Д. В. Токарева, исследующая философские основы абсурдного творчества Хармса и Беккета, адресована литературоведам, философам, историкам современной культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вскрытие собственного тела (а также тела другого) становится метафорой письма как приобщения к коллективному мировому телу. При этом поглощение окружающего мира и выбрасывание себя вовне мыслятся в качестве составляющих одного процесса — процесса порождения дискурса.
Укол — и прорывается интимная связь между стихийной и личной жизнью; кровь устремляется в открывшийся для нее выход, настает ее странное цветение.
Мир погружается в летаргический сон. У Хармса немало рассказов, герой которых никак не может заснуть («Утро», «Сон дразнит человека»); та сфера бытия, в которой прошлое проживается как настоящее и можно увидеть будущее, остается ему недоступной. Сон может быть источником вдохновения, но важно иметь возможность перенести открывшуюся поэту сумрачную реальность в область света, где она обретет конкретность материального объекта. Если такой возможности нет, стихийная жизнь одерживает победу над личной. И тут возникает ощущение головокружения, наши руки «начинают как бы дрожать, слабеют и уже не могут крепко держать предметы; мир выскальзывает из них» (Чинари—1, 92). Подобное ощущение может испытать и пьяный [463], и падающий в обморок, и тот, кто смотрит на свое отражение в текучей воде [464].
У Хармса есть рассказ «Пассакалия № 1» (1937), в котором описывается, как автор, стоя у темной и тихой воды, ожидает некоего Лигудима. Лигудим должен сказать ему «формулу построения несуществующих предметов»; пока же, сунув в воду палку, рассказчик оказывается в неприятной ситуации: под водой кто-то хватает его палку с такой силой, что она со свистом уходит под воду. Ж.-Ф. Жаккар, комментируя этот эпизод с позиций психоанализа, замечает, что
поверхность воды представляет собой экран, сооруженный героем и находящийся между ним самим и наиболее темными сторонами его личности, которые в любой момент могут его поймать, если он будет питать к ним слишком пристальный интерес.
Мне бы хотелось внести в эту трактовку некоторые коррективы: на мой взгляд, вода символизирует здесь не что иное, как враждебную герою родовую, женскую стихию, которая лишает его мужественности (эпизод с палкой — явным фаллическим символом). Вода выступает именно как олицетворение разлитой, неорганической жизни; она покачивается, колышется у ног героя — не случайно эротические движения, по Липавскому, тоже колыхательные (Чинари—1, 86).
Вода скрывает в себе что-то непонятное, страшное; это чувствует и Рокантен, стоящий на набережной у моря:
«А ПОД водой? Ты подумал о том, что может находиться ПОД водой?» — спрашивает он себя. — Скажем, какое-то животное. Огромный панцирь, наполовину увязший в грязи. Двенадцать пар ног медленно копошатся в гине. Время от времени животное слегка приподнимается. В водной глубине.
Чувство стоящего у воды человека амбивалентно: с одной стороны, его разбирает любопытство, с другой — пугает неопределенность того, что может находиться под водой.
Стоит подчеркнуть еще раз, подобного рода амбивалентность свойственна и отношению Хармса к заумной поэзии. Несомненно, что в самом начале своей поэтической деятельности Хармса привлекали идеи о текучести мира, но также несомненно и то, что собственно абстрактная заумь à la Туфанов занимает в его творчестве незначительное место, что неудивительно, если принять во внимание то стремление к конкретности объективного мира, которое исповедовал поэт [465]. Если элементы зауми и сохраняются в более зрелом творчестве Хармса, то речь, как правило, идет о таком изменении в фонетической структуре слова, которое позволяет сохранить его семантическое ядро (напр., «пятки» превращаются в «фятки»). Поскольку сфера бессознательного [466] является областью, в которой нарушается равновесие, присущее миру сознательному, необходимо следить, чтобы это нарушение не повлекло за собой полного растворения в бессознательном: поэт, переходя к третьему этапу очищения мира и языка, должен вновь достичь равновесия, которое, однако, будет включать в себя некую погрешность, восходящую к родовой, бессознательной стихии, — это не что иное, как знаменитое чинарское «некоторое равновесие с небольшой погрешностью». В данной перспективе изменение одной буквы слова выступает как своеобразное обновление предмета, который при этом не теряет своей конкретности. Что же касается слов, фонетический облик которых изменен более основательно, то их создание не противоречит общей установке хармсовской поэтики: напротив, такое слово как бы актуализирует предмет, существовавший до сих пор потенциально, в виде божественной идеи; так поэт участвует в продолжении божественного миротворения, залогом чего служит знание «формулы построения несуществующих предметов». При этом для Хармса важно не дать слову расплыться, потерять свои очертания. Вот почему знание формулы, под которым Хармс понимает, естественно, не набор логических умозаключений, но некое мистическое знание [467], дающее возможность последовательно подниматься по ступеням бытия, имеет такое значение: выражаясь фигурально, поэт должен быть вооружен «саблей», без которой он не может приступить к регистрации нового мира. Вода же этой формулы не имеет — она бесформенна, аморфна. В ней отражается «застывший в падении мир», вечно стремящийся к концу и этого конца не достигающий:
Я прислушиваюсь и слышу голос застывшего в падении мира, — говорит Моллой, — под неподвижным бледным небом, излучающим достаточно света, чтобы видеть, чтобы увидеть, — оно застыло тоже. И я слышу, как голос шепчет, что все гибнет, что все рушится, придавленное огромной тяжестью, но откуда тяжесть в моих руинах, и гибнет земля — не выдержать ей бремени, и гибнет придавленный свет, гибнет до самого конца, а конец все не наступает. Да и как может наступить конец моим пустыням, которые не озарял истинный свет, в которых предметы не стоят вертикально, где нет прочного фундамента, где все безжизненно наклонено и вечно рушится, вечно крошится, под небом, не помнящим утра, на надеющимся на ночь. И эти предметы, что это за предметы, откуда они взялись, из чего сделаны? И голос говорит, что здесь ничто не движется, никогда не двигалось, никогда не сдвинется, кроме меня, а я тоже недвижим, когда оказываюсь в руинах, но вижу и видим. Да, мир кончается, несмотря на видимость, это его конец вдохнул в него жизнь, он начался с конца, неужели не ясно?
3. Искусство и философский камень
Согласно Юнгу, психологическим эквивалентом алхимической трансмутации является процесс индивидуации, становления самости. Один из этапов трансмутации описывался алхимиками как погружение в купель, наполненную водою:
Это — возврат к исходному состоянию тьмы, к околоплодным водам в матке беременной женщины. Алхимики часто указывают, что их камень растет, как дитя в утробе матери; они называли vas hermeticum маткой, а его содержимое — плодом [468].
Вода выступает здесь как нечто самодостаточное и символизируется Уроборосом, змеем, кусающим себя за хвост. Вода — это mare tenebrosum, сумеречное море, добытийственный хаос; цель алхимика — трансформировать эту субстанцию, выделив из нее философский камень, lapis philosophorum, в котором происходит coniunctio oppositorum, совпадение противоположностей. По свидетельству Юнга [469], вода рассматривалась в алхимии также в качестве первоэлемента, elementum primordiale, который представляет собой таинственную субстанцию, называемую prima materia и являющуюся основой алхимического opus’a. Вода как prima materia есть материальная основа всех тел, материя, которую «божественный акт творения выносит из хаоса как темную сферу» [470]. В этом исходном неорганическом состоянии скрыта новая субстанция, новое проявленное состояние, вызванное к жизни искусством адепта и милостью Божьей. Философский камень вырастает из massa confusa, которая содержит его в себе как еще не актуализировавшийся элемент; вот почему lapis выступает одновременно и как prima materia и как ultima materia, цель алхимического делания. Если с психологической точки зрения первичная материя манифестируется как проекция бессознательного, то конечная материя есть проекция самости; самость же является по самой своей сути «предсущей совокупностью, которая включает в себя и сознание, и бессознательное» [471]. Достижение самости как внутреннего психического единения символизируется в алхимии совпадением противоположностей, соединяющихся в один камень, который при этом предстает как наполовину физический, наполовину метафизический продукт, то есть духовно-материальное единство [472]. Так, Меркурий — lapis — это одновременно и среда, где происходит совпадение, и продукт данного совпадения; он является и материальной субстанцией, и живым духом, имеющим трансцендентную природу.