Волшебная палочка
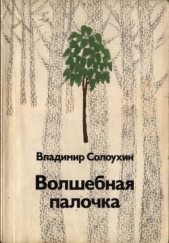
Волшебная палочка читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ведь если на экране танцует Галина Сергеевна Уланова (или иная балерина), то это в общем-то искусство балета, так сказать хореография; ведь если с экрана поет Иван Семенович Козловский (или иной певец), то это образец вокального искусства, не более; если с экрана, став в позу (на трибуне или нет, это все равно), актер произносит десятиминутную речь, то этому искусству есть иное название. А кинематограф? Может быть, и нет кинематографа как такового? Может быть, все взято напрокат из других искусств?
Все мы помним, как в «Броненосце “Потемкине”» со знаменитой одесской лестницы катится детская коляска. Она катится, кажется, бесконечно долго (на самом деле несколько секунд, ровно столько, чтобы произвести задуманное впечатление), и мы следим за ней затаив дыхание.
Можно ли это показать в театре? Можно ли изобразить на холсте? Сыграть на пианино? Зарифмовать?
В «Чапаеве» полковник играет «Лунную сонату», а его денщик как бы под музыку натирает пол. Денщик плачет, потому что брата Митьку засекли розгами. Да, на сцене театра это тоже возможно, но где театр возьмет крупный план выразительной шеи полковника и крупный план дрожащего от сдерживаемых рыданий бородатого лица денщика, и слезу, катящуюся по его казачьей бороде? Это мог только кинематограф.
У женщины в доме скрывается незнакомый ей доселе мужчина, которого ищет полиция. Женщина пришла в магазин купить ему бритвенные принадлежности. Вот мы видим витрину магазина и женскую руку на ее фоне. Рука уверенно показывает на бритву, на помазок, потом исчезает, потом появляется снова и, помедлив долю секунды, показывает на одеколон. Бритва, помазок и одеколон последовательно исчезают с витрины. Можно было бы долго говорить, что у женщины мало денег и что к мужчине она относится так, а не эдак, вот решила сделать ему приятное и все-таки разорилась на одеколон… Чтобы убедить нас во всем этом, потребовались секунды. Может быть, даже одна секунда.
Престарелый нищий Рембрандт проникает на чердак, где пылятся его полотна, и в частности «Ночной дозор». Старик подходит к картине. Ничего не видно, потому что поверх живописи накопился толстый слой пыли. Так что же, значит, все зря? Старик мучительно вглядывается в холст и вдруг резким движением, локтем, рукавом рваного пальто бьет по холсту. Из пыли, среди пыли загорается яркое, полное жизни лицо дозорного. Живопись жива. Когда-нибудь она вся освободится от пыли, и люди будут глядеть на нее и наслаждаться. Жизнь прожита не зря. Старик оборачивается к нам, зрителям, потомкам, и с непередаваемой горькой и, может быть, лукавой улыбкой задувает пламя свечи.
Чтобы рассказать как следует эту сцену, нужно исписать страницы. Затрачено несколько секунд, буквально два жеста.
Брат стреляет в брата. В следующее мгновение во весь экран показан разбитый пулей медальон с портретом их матери. Тут вообще полсекунды действия, а сколько сказано!
(Я должен извиниться за то, что не указываю названий фильмов, а тем более их постановщиков, сценаристов и т. д. как это положено делать. Но я просто вспоминаю, что я видел когда-то и где-то. Нужно ли пренебрегать запомнившимся если даже забыл, как называется фильм и кто его поставил?)
Короче говоря, если мы даже не сможем перечислить всех элементов, составляющих язык кино (крупные планы и чередование планов вообще, монтаж, ритм и возможность управлять ритмом, угол зрения объектива и многое, многое другое что знают и могут назвать специалисты), то все же мы должны признаться, что существует особый язык кино, существуют средства именно кино, так же как существуют средства поэзии, музыки, живописи, театра. Причем настоящий язык кино так же интернационален, как музыка, при своих национальных особенностях. Он настолько выразителен, что зафиксированы случаи, когда люди за давностью лет вспоминали виденные ими немые фильмы как звуковые (и спорили, что они звуковые), а виденные ими черно-белые фильмы вспоминали как цветные (и спорили, что они цветные).
Могут подумать, уж не юлю ли я вокруг давнишней проблемы, будто звук убил кино, а цвет доконал его окончательно, уж не кричу ли я старый лозунг: «Назад к немому кино»?
«Назад» вообще ничего не бывает. Против цвета я мог бы еще спорить (точно так же, как в художественной фотографии), но против слова, помилуйте! Слово само по себе — огромная сила, великое искусство, и уж если невозможно обойтись без того, чтобы не брать напрокат театр, балет, музыку, живопись, то почему же не брать и слово? Важно только, как говорил один старый моряк, чтобы все было «в плепорцию».
Мы можем наизусть (более или менее точно) воспроизвести целые диалоги из талантливых или, если хотите, из великих фильмов.
— Ты что же, чертова девка, противник близко, а у тебя пулемет заело!
— Не заело, Василий Иванович.
— Как это не заело? Почему же не стреляла?
— Ждала.
— Чего ждала?
— Когда подойдут поближе…
С другой стороны, однажды мы вышли на улицу после просмотра нового фильма, в котором очень много говорили.
— Дайте людям право на пафос, — убеждал меня оппонент, с которым мы обсуждали этот фильм.
— Пафос — вещь хорошая. Но вот в фильме генерал минут пять или семь говорил на свадьбе. Можешь ты вспомнить, о чем он говорил? Мы ведь только что, только что слушали эту печь. Не вспомнишь. И я не вспомню. Зачем же тогда он говорил? А сколько метров он отнял у фильма, а сколько можно было бы всего убедительно рассказать (показать) на этих метрах, если бы не подменять язык кино обыкновенным, пусть и человеческим, но не ставшим, значит, фактом искусства языком?
Говорят, что все диалоги талантливого, так сказать кинематографического, фильма занимают не больше двадцати страничек на машинке. Диалоги же фильма некинематографичного распухают на несколько печатных листов.
Это вовсе не рецепт, не исключительное правило. Существуют фильмы, построенные только на диалоге. Например, «12 рассерженных мужчин» или «Мари-Октябрь». Но при всем том это хорошие, настоящие фильмы.
Беда не в том, что звук и цвет проникают в кино, они могут быть его лучшими помощниками. Беда в том, что и звук и цвет часто подменяют язык кино, они как бы снимают с создателей фильма долю ответственности, они как бы обещают вывезти на себе фильм, если там и не будет кинематографа как такового. Но это именно обещание, именно обман. Подмена есть подмена, а искусство здесь ни при чем.
Какие бы умные люди ни двигались по экрану, какие бы умные мысли они ни высказывали, это все же будут просто умные люди, высказывающие умные мысли. Они могли бы высказывать их по радио, по телевизору или со сцены театра.
Дух противоречия овладевает некоторыми кинематографистами, толкает их на эксперимент. В яростном стремлении возвратить кино его собственный язык работают сейчас многие польские документалисты. Во время поездок в Польшу мне удалось просмотреть много документальных лент. Собственно, это не хроника (хроника в Польше, разумеется, существует, и очень хорошая), а какой-то новый жанр кино, а если не новый (я мог его назвать так по неведению), то широко и удачно разрабатываемый.
Во-первых, железное правило — одна часть. Молодой режиссер сказал мне: «Одна часть — это же очень много. Это же десять минут. Можно рассказать целую жизнь».
Во-вторых, никакой игры, только натурные съемки.
В-третьих, никакого звука, кроме музыки, то есть никакого текста.
А в целом получаются превосходные киноэтюды, киноновеллы или киноочерки. Поясню одним или двумя примерами.
Школа ваяния. Молодые люди выбирают себе из груды уродливые железные каркасы для лепки. Устанавливают их. В центре студии — натурщица, прекрасное молодое тело. Каждый из студентов лепит его, интерпретируя по-своему. Шесть или семь интерпретаций. Линия бедра живой девушки. Вот эта же линия в глине у одного, у другого, у третьего. Один работает, ваяя чуткими ладонями, другой — мелким инструментом, третий рубит по глине топором. Потом готовые, высохшие скульптуры разбивают молотком, сваливают в грузовик и увозят. Новая партия студентов разбирает железные каркасы для лепки.
























