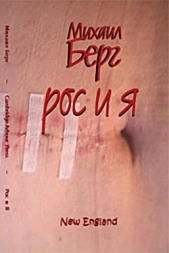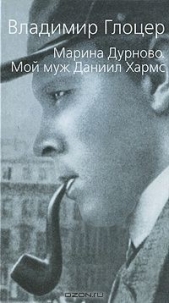Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Д.Хармса и С.Беккета

Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Д.Хармса и С.Беккета читать книгу онлайн
Даниил Хармс и Сэмюэль Бсккет ничего не знали друг о друге. Тем не менее их творчество сближается не только внешне — абсурдностью многих текстов, — но и на более глубинном уровне метафизических интуиций. Оба писателя озабочены проблемой фундаментальной алогичности мира, ощущают в нем присутствие темно-бессознательного бытия-в-себе и каждый по-своему ищут спасения от него — либо добиваясь мистического переживания заново очищенного мира, либо противопоставляя безличному вещественно-биологическому бытию проект смертельного небытия. Монография Д. В. Токарева, исследующая философские основы абсурдного творчества Хармса и Беккета, адресована литературоведам, философам, историкам современной культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Все формы разрушены, грани сняты, зыблются и исчезают лики, нет личности, — пишет Вячеслав Иванов. — Белая кипень одна покрывает жадное рушенье воды.
В этих недрах чреватой ночи, где гнездятся глубинные корни пола, нет разлуки пола. Если мужественно восхождение и нисхождение отвечает началу женскому, если там лучится Аполлон и здесь улыбается Афродита, — то хаотическая сфера — область двуполого, мужеженского Диониса. В ней становление соединяет оба пола ощупью темных зачатий [313].
Размывание конкретных очертаний личности и мира вряд ли могло бы понравиться Хармсу, концепция которого требует сублимации хаотического подсознательного мира, его просветления. Отказ от власти отца, который символизирует освобождение от пут дискурсивного сознания, отнюдь не должен, по Хармсу, трансформироваться в приятие власти матери, власти первородного хаоса. Потеря миром своих привычных очертаний является, с этой точки зрения, лишь этапом на пути воссоздания реального мира, обладающего новой, просветленной Духом материальностью. Данный процесс предстает поэтому как переход от мира материализма, в котором правит сознание или человеческий логос, к изначальному, добытийственному хаосу, где сознание уступает власть бессознательному, и от него к Царству гармонии и сверхсознания, в котором происходит одухотворение материи и материализация духа, или, говоря по-другому, мир обожествляется, становится Бытием, имманентным Божественному Логосу. Именно сверхсознание интересует поэта, доктрину которого можно определить, процитировав его же самого, как «поиски путей достижения», достижения той сферы бытия, в которой Бог человечен, а человек божественен.
Таким образом, воззрения Хармса существенно отличаются от принятых в начале века представлений о дионисийской природе искусства: в отличие от Вяч. Иванова, для которого андрогинная целостность есть форма слияния с беспредельным, достигаемая в «прадионисийском половом экстазе», Хармс отрицает саму возможность победы над полом с помощью самого же пола: для него, как и для Бердяева и Введенского, реальный половой акт является слиянием призрачным, в котором лишь «кажется, что ты не один». Полного слияния, в котором достигалось бы преображение обеих личностей, в половом акте не происходит в особенности потому, что в нем теряется индивидуальность личностного, мужского начала, которое уступает под напором родовой стихии: женщина как бы кастрирует мужчину — мотив, с которым мы уже встречались в некоторых хармсовских текстах. В результате андрогинная целостность, объединяющая и просветляющая оба начала, мужское и женское, становится недостижимой, так как мужская стихия полностью вытесняется женской. По Липавскому, суть наслаждения в половом соединении — в разрушении структуры, когда происходит освобождение от «каких-то ограничений индивидуальности, от напряжения ее, возвращение в стихию» (Чинари—1, 244). Если заменить слова «ограничение индивидуальности» на «соборность», а «наслаждение в половом соединении» на «оргийное самозабвение», то нетрудно узнать в словах друга Хармса ту лексику, которая была свойственна некоторым русским символистам, и в первую очередь Вячеславу Иванову, для словаря которого оргиазм и соборность были в десятые годы самыми значимыми терминами.
Общим для этих неожиданно встретившихся понятий, — объясняет исследователь культуры Серебряного века А. Эткинд, — является недоверие к эго, неприятие телесных и психических границ человеческого я и почти навязчивое стремление эти границы разрушить: настойчивая фантазия коллективного тела, которая предлагалась как способ индивидуального удовлетворения и как путь решения проблем современности [314].
Если Дионис Иванова имманентен хаосу, то Бог Хармса есть прежде всего Бог христианский, который хаосу трансцендентен: именно трансцендентность Бога — абсолютного творца и делает возможным существование того состояния сверхсознания, которое трансцендирует бессознательное. Отказ от ограниченного человеческого «я» и погружение в «мы», в ту сферу, где теряются конкретные очертания личности и предметов, является для Хармса лишь этапом на пути к сверхличности, в которой «я» сознательное и «мы» бессознательное совпадают в «сверх-я». «Сверх-я» имеет личностную природу и в го же время есть выход за пределы замкнутого бытия и причащение единству просветленного мира. По словам Бердяева, особенно здесь близкого Хармсу, «я» сознает себя лишь через то, что выше «я». Именно в творчестве, которое носит «напряженный личный характер» и вместе с тем есть «забвение личности» [315], раскрывается этот парадокс личности. Творчество, таким образом, есть то же самопознание как познание собственной самости, ибо ее основа — в единении сознательных и бессознательных элементов.
Самость, — пишет Вышеславцев, — переступает (трансцендирует) через все ступени бытия, через все категории, включая и психические. Самость — не тело и не душа, не сознание, не бессознательное, не личность и даже не дух [316].
И в то же время во всей абсолютности самости открывается ее имманентность конкретной, моей личности: «В этом слове „мое“ с полной силой проявляется чудесная имманентность и трансцендентность самости» [317]. Самость имманентно-трансцендентна и в этом подобна абсолютной самости — Богу-Творцу; иначе невозможно было бы сказать, подобно Хармсу: «Во все, что я делаю, я вкладываю сознание, что я творец мира». Однако богоподобие самости не означает ее самодостаточности, самоабсолютизации: если творчество не будет выходом за пределы собственной самости, то оно превратится из дела богочеловеческого в волюнтаризм сверхчеловека, для которого Бога нет; творчество же, как раскрытие божественного в человеке, подразумевает трансцендентную зависимость самости творца от абсолютной самости, зависимость, мистическое переживание которой лежало (см., например, «поэтические» молитвы Хармса) в основе хармсовского понимания поэтического творчества.
Я уже вспоминал слова Хармса о том, что стихи нужно писать так, что если бросить стихотворением в окно, то стекло разобьется. Герой «Тошноты» Рокантен, несмотря на все свое неверие в трансцендентную божественную силу, добивается, по существу, той же цели, что и Хармс, — создать предмет, книгу, которая самой своей твердостью, четкостью, определенностью могла бы противостоять эрозии мира, превращающегося в аморфную, гомогенную массу.
<…> в недрах всех моих начинаний, которые кажутся хаотичными, — говорит Рокантен, — я обнаруживаю одну неизменную цель: изгнать из себя существование, избавить каждую секунду от жировых наслоений, выжать ее, высушить, самому очиститься, отвердеть, чтобы издать наконец четкий и точный звук ноты саксофона.
Знаменательно, что Беккет также обращается к музыке, чтобы остановить наступление бессознательного. Если, по его собственным словам, аполлонический тип художника ему был всегда чужд, то погружение в стихию дионисийскую, нашедшее свое выражение в прозаических текстах, написанных по-французски, поставило Беккета перед новой опасностью — опасностью стабилизации на уровне бытия-в-себе. Лишь музыка способна «высушить», «выпарить» тяжелые массы существования, прорвать однородность мира. Недаром в романе «Мэрфи» переход героя в состояние нирваны равнозначен растворению в музыке:
На закате того же самого дня, после многих бесплодных часов, проведенных в кресле-качалке, как раз к тому времени, когда Сэлия начала рассказывать свою историю, Мэрфи вдруг показалось, что название М.М.М.М. [319] начало звучать как слово музыка, Музыка, МУЗЫКА, МУЗЫКА, которое любезный наборщик набрал, использовав разные шрифты или же какие-нибудь иные типографические приемчики.