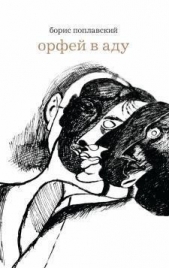«Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе
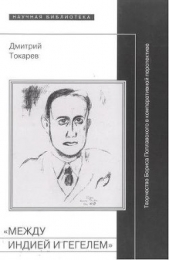
«Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе читать книгу онлайн
Борис Поплавский (1903–1935) — один из самых талантливых и загадочных поэтов русской эмиграции первой волны. Все в нем привлекало внимание современников: внешний облик, поведение, стихи… Худосочный юноша в начале своей парижской жизни и спустя несколько лет — настоящий атлет; плохо одетый бедняк — и монпарнасский денди; тонкий художественный критик — и любитель парадоксов типа «отсутствие искусства прекраснее его самого»; «русский сюрреалист» — и почитатель Лермонтова и блока… В книге Дмитрия Токарева ставится задача комплексного анализа поэтики Поплавского, причем основным методом становится метод компаративный. Автор рассматривает самые разные аспекты творчества поэта — философскую и историческую проблематику, физиологию и психологию восприятия визуальных и вербальных образов, дискурсивные практики, оккультные влияния, интертекстуальные «переклички», нарративную организацию текста.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В окончательном варианта финала «Аполлона Безобразова» события также разворачиваются осенью — Тереза уходит в монастырь, и Васенька, опустошенный и отчаявшийся, остается вдвоем с Богомиловым. И хотя дело происходит в Париже, а не в Лондоне, главное здесь — это сам поливаемый дождем [241]огромный город, пространство нищеты и одиночества, в котором герой превращается в библейского Иова, взывающего к пустым небесам [242].
Следующий пассаж «Прощанья» есть констатация неудачи, постигшей поэта, возжелавшего стать магом или ангелом, работавшего над созданием нового языка и новой плоти; он возвращается на землю, «домой с небес»:
Иногда я вижу на небе бесконечные пляжи, покрытые белыми ликующими народами. Надо мною большой золотой корабль полощет в утреннем бризе свои многоцветные флаги. Все празднества, все триумфы, все драмы я создал. Пытался выдумать новые цветы и новые звезды, и новую плоть, и новый язык. Я поверил, что добился сверхъестественной власти. И что же? Я должен похоронить свое воображенье и свои воспоминанья! Развеяна слава художника и сказочника!
Я, который называл себя магом или ангелом [243], освобожденным от всякой морали, — я возвратился на землю, где надо искать себе дело, соприкасаться с шершавой реальностью [244].
Для героя Поплавского «спуск» с небес на землю, в «ад женщин», как сказал бы Рембо, означает отказ от «метафизической строптивости», свойственной «храбрецу, девственнику, аскету, пророку, люциферу [245]» ( Домой с небес, 329); это бегство «от Бога в любовь» ( Домой с небес, 331), предательство «золотого города» за одно «движение ярких розовых губ, за одно жирное сияние красивой надушенной головы» ( Домой с небес, 338). Но «обойтись без Бога, отдохнуть от его ненасытной требовательности» у него не получается, как впрочем и вернуться на небеса, в то «открытое» пространство, где человеку некуда скрыться от Бога. Однако выход все-таки есть — необходимо принять
форму своей судьбы, как губы принимают форму бронзовой статуи, которую они целуют. Угадав ее, подражай только ей, учись только у нее. Ты, неизвестный солдат русской мистики, пиши свои чернокнижные откровения, переписывай их на машинке и, уровнив аккуратной стопой, складывай перед дверью на платформе, и пусть весенний ветер их разнесет, унесет и, может быть, донесет несколько страниц до будущих душ и времен, но ты, атлетический автор непечатного апокалипсиса, радуйся своей судьбе. Ты один из тех, кто сейчас оставлены в стороне, которые упорно растут, как хлеб под снегом, в ковчег нового мирового потока — мировой войны. Ковчег, который ныне строится на Монпарнасе; но если поток запоздает, ты погибнешь, но и это перенесешь спокойно, так же, как перенес, принял уже гибель своего счастья или заочную гибель своих сочинений… ( Домой с небес, 336–338).
Дорога, по которой предстоит идти Олегу, — дорога «сильнейших, храбрейших мужей»: стоика Эпиктета, каталонского алхимика Рамона Луллия, мага Мартинеца де Паскали, святого Иоанна Креста, французских католических мыслителей Леона Блуа, Эрнеста Элло [246], Шарля Пеги, но также и поэтов Рембо и Малларме [247], создавших «тайные и проклятые способы существования» ( Неизданное, 223).
Таким образом, финал «Домой с небес» является «открытым» финалом [248], и в этом смысле он похож на финал «Прощанья», который также «обращен» в будущее [249](что выражается, в частности, грамматическим будущим временем):
Однако это канун. Воспримем все импульсы силы и настоящей нежности. А на заре, вооруженные пылким терпеньем, мы войдем в великолепные города.
К чему говорить о дружелюбной руке! Мое преимущество в том, что я могу насмехаться над старой лживой любовью и покрыть позором эти лгущие пары, — ад женщин я видел! [250]— и мне будет дозволено обладать истиной в душе и теле [251].
Но вернемся к морскому чудовищу Левиафану, которого Блейк, иллюстрируя Книгу Иова, изобразил в виде огромного змея. В Книге Исайи Левиафан также называется змеем: «В тот день поразит Господь мечом Своим тяжелым, и большим и крепким, левиафана, змея прямо бегущего, и левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское» (Исайя 27: 1). Характерно, что в «Домой с небес» Безобразов прямо называется змеей [252]:
…Аполлон Безобразов, не живя, следственно, не старея, не страдал и, следственно, ни в чем не участвуя, архаический и недоступный, продолжал путешествовать из конца в конец города, как змея, не спеша переползающая железнодорожные пути. Потом змея подолгу читала газету «Paris-Midi» и философию науки Фихте, на полях которой она вела свой незамысловатый монашеский дневник ( Домой с небес, 192).
Вряд ли случайно, что Аполлон выбрал именно эту газету, в названии которой есть слово «полдень»; действительно, хотя Безобразов и ассоциируется с Левиафаном, а его первая встреча с Васенькой происходит на воде (Безобразов неподвижно сидит в лодке на реке), в целом он характеризуется не как демон темных водных глубин, а как полуденный солнечный демон, солнечный гений, который «по учению древних, просыпается ровно в полдень — Меридианус-Даемон — и славит вечное совершенство солнечного движения» ( Аполлон Безобразов, 141). В статье «О смерти и жалости в „Числах“» Поплавский вновь связывает демоническое начало с солнечным светом: «Античный историк говорит, что в Антиохии золотая статуя Аполлона ровно в полдень пела о смерти. Он называет это солнечное жало гибели „meridianus daemon“, „демон полдня“, который на вершине счастья и красоты поражает в сердце древнего человека» ( Неизданное, 262–263) [253]. Основной модус бытия Безобразова — это оцепенение, окаменение, «неподвижность судей, авгуральных фигур и изваяний» ( Аполлон Безобразов, 118); испепеляющая энергия Солнца, аккумулированная и отраженная Аполлоном, обездвиживает, обесцвечивает все вокруг, «выпивает» жизненную силу; «особое мучение неподвижности, как магнитная аномалия, окружало его, все теряло силу и цвет» ( Домой с небес, 268). Даже когда Безобразов увлекается водолазным искусством и погружается в воду в поисках древних статуй, он кажется совершенно «непроницаемым» для этой бесформенной, бесструктурной субстанции:
Это мы с Зевсом, сидя на плоскодонной лодке, вертели колеса воздушного насоса и следили, опрокинувшись, как он отдалялся по железной лестнице, достигал дна и то медленно шел, то останавливался в необъяснимом раздумье, как будто мечтал. И все-таки ему удалось извлечь со дна бронзовую фигуру какого-то неизвестного героя с глазами из драгоценного стеклянного сплава и во фригийской шапочке, сходство коего с Митрой давало совершенно новый смысл существованию подземелий ( Аполлон Безобразов, 143).
Интересно, что в начале 1930-х годов феномен «страха полдня» привлек внимание друга Д. Хармса философа Леонида Липавского. В эссе «Исследование ужаса» он так описал ощущения человека в жаркий летний полдень:
Есть особый страх послеполуденных часов, когда яркость, тишина и зной приближаются к пределу, когда Пан играет на дудке, когда день достигает своего полного накала. <…> Вдруг предчувствие непоправимого несчастья охватывает вас: время готовится остановиться. День наливается для вас свинцом. Каталепсия времени! Мир стоит перед вами как сжатая судорогой мышца, как — остолбеневший от напряжения зрачок. Боже мой, какая запустелая неподвижность, какое мертвое цветение кругом! Птица летит в небе, и с ужасом вы замечаете: полет ее неподвижен. Стрекоза схватила мушку и отгрызает ей голову; и обе они, и стрекоза и мошка, совершенно неподвижны. Как же я не замечал до сих пор, что в мире ничего не происходит и не может произойти, он был таким и прежде и будет во веки веков. И даже нет ни сейчас, ни прежде, ни — во веки веков [254].