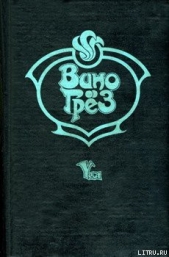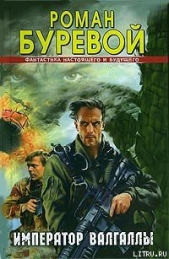«Валгаллы белое вино»

«Валгаллы белое вино» читать книгу онлайн
Наряду с античными, французскими и итальянскими культурными реалиями одно из ведущих мест в поэтическом мире О. Мандельштама занимают мотивы из немецкой литературы, мифологии и истории. В книге Генриха Киршбаума исследуются развитие и стратегии использования немецкой темы в творчестве поэта: от полемики с германофилами-символистами и (анти)военных стихотворений (1912–1916) до заклинаний рокового единства исторических судеб России и Германии в произведениях 1917–1918 годов, от воспевания революционного братства в полузабытых переводах из немецких пролетарских поэтов (1920-е годы) до трагически противоречивой гражданской лирики 1930-х годов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Новые культурософские концепции ложатся в основу собственно филологических размышлений [155]: язык как принцип единства при всей своей изменчивости и динамичности («ослепительно ясной в сознании филологов» (I, 219–220)) остается постоянной величиной, «константой». В свою очередь, сам «русский язык так же точно, как и русская народность, сложился из бесконечных примесей, скрещиваний, прививок и чужеродных влияний» (I, 220). Вся русская литература предстает в глазах Мандельштама литературой заимствований. Но заимствование заимствованию рознь: так, согласно Мандельштаму, символисты, за исключением И. Анненского и А. Блока, прививали русской литературе заведомо чуждое и экзотическое. В своей критике символизма Мандельштам переадресовывает блоковские упреки акмеистам в иностранности, сформулированные в статье «Без божества, без вдохновенья», — самим символистам.
Русский символизм характеризуется как «запоздалый вид наивного западничества, перенесенного в область художественных воззрений и поэтических приемов» («Письмо о русской поэзии», II, 237). Таков «нещадный и бесцеремонный» в обращении со словом Андрей Белый — «болезненное и отрицательное явление в жизни русского языка»: все служит у Белого на потребу его «спекулятивного мышления» («О природе слова», I, 221) [156].
Хищническому «конквистадорству», «утилитаризму» символистов, обращавшихся к европейской культуре и поэзии лишь для удовлетворения своих религиозных претензий, противопоставляется «спокойное обладание сокровищами западной мысли» («Письмо о русской поэзии», II, 237). Мандельштам призывает измерять европеизм символизма «градусами поэзии» А. Блока (там же: 238). Блок — «сложнейшее явление литературного эклектизма», «собиратель русского стиха» (там же: 295); не нарушая «домашности» русской литературы, он освоил опыт европейской поэзии и суммировал «европейский опыт» русской литературы XIX века. Часть этого русского «европейского» опыта — усвоение культуры немецкой.
По Мандельштаму, исследователь обязан говорить не о том, «что хотел сказать поэт», а о том, «откуда он пришел» («А. Блок», II, 252), потому что нет «ни одного поэта без роду и племени, все пришли издалека и идут далеко» («Письмо о русской поэзии», II, 239) [157]. Поэтому в своем эскизном портрете Блока он в первую очередь выстраивает его «литературный генезис» [158]. Блок, по мысли Мандельштама, оказывается глубоко связан как с поэзией немецкого романтизма, так и с традицией его восприятия в русской литературе середины XIX века:
«Он
(Блок. — Г.К.)Лексическое оформление характеристики Блока, «умудренного германскими и английскими братьями», уводит к концовке панъевропейской оды «Зверинец», в которой «и умудренный человек почтит невольно чужестранца» (I, 120): так и Блок, «умудренный» открытыми и чуткими романтиками, в своем творчестве «почтил» и освоил чужесть европейской культуры [159].
В своих характеристиках Блока Мандельштам во многом опирается не только на свои стихи, но и на положения статьи самого Блока об Ап. Григорьеве. Вот только некоторые из них, касающиеся немецкой темы [160]: «Григорьев петербургского периода — …мечтательный романтик, начитавшийся немецкой философии» (1989: 286–287). Описывая генеалогию Ап. Григорьева, Блок говорит об «„умственных сатурналиях“ шеллингианства» (Блок 1989: 286), «шеллинговском хмеле» и о «гегелевском чаде», сквозь которые звучит «сотрясающий» Ап. Григорьева «адский вальс» из оперы немецкого романтика Д. Мейербера «Роберт-Дьявол» (Блок 1989: 282) [161]. Мандельштам в своих характеристиках Блока частично переносит блоковские характеристики Ап. Григорьева на самого Блока. Конечно, это не произвольный перенос — сам Блок по ходу статьи многократно отождествляет себя с Ап. Григорьевым [162].
Пушкин, Гете, Баратынский, Новалис видятся мандельштамовскому поколению через призму Блока. Блок выступает посредником: благодаря Блоку Гете и Новалис заговорили на языке эпохи, актуализировались в сознании нового читательского поколения. Блок просветил, приобщил русскую поэзию 1900-х годов к поэтической культуре 1820–1850-х годов, неотъемлемой частью которой было усвоение опыта немецкой поэзии рубежа XVIII–XIX веков. Характерно, что Мандельштам говорит здесь о пушкинском императиве просвещения как актуализирующей адаптации [163].
Главные положения своих рассуждений, касающиеся литературных связей Блока с немецкой романтической традицией и ее восприятием в русской поэзии XIX века, Мандельштам, по нашему предположению, почерпнул не только из работ Блока, но и из статьи Жирмунского «Поэтика Александра Блока», опубликованной в 1921 году в сборнике «Об Александре Блоке». Эту статью Жирмунского Мандельштам читал и выделил, вместе со статьей Эйхенбаума, «именно как работу» из общего потока реакций на смерть Блока — «болотных испарений лирической критики» («А. Блок», II, 252). По мнению Жирмунского, в песнях Блока «романтическая стихия русской поэзии и русской жизни достигла вершины своего развития, и „дух музыки“, о котором говорил поэт, явился в самом совершенном своем обнаружении» (1977: 237). В числе «предшественников» Блока Жирмунский (а за ним и Мандельштам) называет Ап. Григорьева, в частности его переводы из Гейне (1977: 229) [164].
Мандельштам чувствовал и тематизировал ученическое родство своего синтетического подхода к поэзии XIX века с блоковским подходом. Поэтому неудивительно, что продолжателями Блока и антиподами символистов выступают в глазах Мандельштама акмеисты, которых Мандельштам вписывает в традицию «гениального чтения в сердце западной литературы»:
«Так Пушкин, и с ним все его поколение, прочитал Шенье. Так следующее поколение, поколение Одоевского, прочитало Шеллинга, Гофмана и Новалиса… Акмеистический ветер перевернул страницы классиков и романтиков, и они раскрылись на том самом месте, какое всего нужнее было для эпохи. Расин раскрылся на „Федре“, Гофман на „Серапионовых братьях“. Раскрылись ямбы Шенье и гомеровская „Илиада“» («О природе слова», I, 230).
Мандельштам дает не «канонический» акмеистический список заимствованной литературы, а свой, во многом отличный от программного списка Гумилева (1990: 58), в котором не было Гофмана по причинам антисимволистской «германофобии» главы акмеистов. Знаменательно и то, что «акмеистический ветер» раскрыл книги не просто новых авторов, а новых «старых», тех, которых когда-то впервые прочитало и открыло для себя литературное поколение начала XIX века. Прямо повторяются имена Шенье и Гофмана, ставшие фактом русской словесности в интересующую Мандельштама эпоху. Акмеистические (мандельштамовские) вкусы соотносятся со вкусами зачинателей русской поэзии. Такая секундарность поэтического мышления — не показатель творческой несамостоятельности, а свидетельство понимания литературной преемственности как осознанной рефлексивной работы с традицией. Аналог этой установке мы находим в поэтике реминисценций Мандельштама (а Мандельштам — в поэтике Блока): не чужой иностранный текст, а его преломление в русской поэтической традиции становится объектом цитации и стилизации [165].