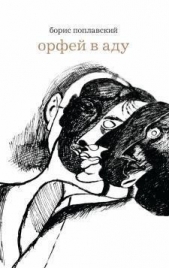«Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе
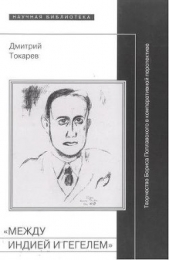
«Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе читать книгу онлайн
Борис Поплавский (1903–1935) — один из самых талантливых и загадочных поэтов русской эмиграции первой волны. Все в нем привлекало внимание современников: внешний облик, поведение, стихи… Худосочный юноша в начале своей парижской жизни и спустя несколько лет — настоящий атлет; плохо одетый бедняк — и монпарнасский денди; тонкий художественный критик — и любитель парадоксов типа «отсутствие искусства прекраснее его самого»; «русский сюрреалист» — и почитатель Лермонтова и блока… В книге Дмитрия Токарева ставится задача комплексного анализа поэтики Поплавского, причем основным методом становится метод компаративный. Автор рассматривает самые разные аспекты творчества поэта — философскую и историческую проблематику, физиологию и психологию восприятия визуальных и вербальных образов, дискурсивные практики, оккультные влияния, интертекстуальные «переклички», нарративную организацию текста.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Разве это стихотворение, как, впрочем, и все остальные стихи сборника, написано «автоматическим письмом» в состоянии пассивности душевнобольного, опьяненного или сомнамбулы? Разве оно подтверждает вывод Сыроватко о том, что в «области поэтики» Поплавскому свойственны «принципиальность и жесткость в следовании раз навсегда обозначенной линии „антилитературности“ и „антиклассицизма“» [147]? Ответ, по-моему, очевиден [148].
Что же остается от сюрреализма Поплавского, если сама исследовательница указывает на принципиальные отличия его поэтики от поэтики сюрреалистов? Итак, по мнению Л. Сыроватко, у Поплавского нет «пафоса иронии»; понятие «коллаж» неуместно по отношению к его текстам [149]; большинство стихотворений сборника «Автоматические стихи» рифмованные и ритмизованные; «игра со словом, порой на грани каламбура, для Поплавского никогда не игра»; концовки стихотворений подчеркнуто афористичны; «Автоматические стихи» — не произвольный набор текстов, а «сложно организованная система циклов»; стихотворения насыщены традиционными для русской культуры христианскими мотивами. В остатке какой-то «русский сюрреализм», генетическая связь которого с собственно сюрреализмом лично у меня вызывает большие сомнения. Цель Сыроватко понятна — доказать, что «сюрреализм» Поплавского был «явлением глубоко самобытным и, сложись его судьба иначе, расцвел бы на русской почве с той же необратимостью, что и в Париже» [150], — но зачем тогда называть это явление сюрреализмом?
В 1936 году, на следующий год после смерти Поплавского, Татищев выпустил сборник стихов «Снежный час», составленный самим поэтом из стихов 1931–1935 года [151]. Критики сразу заметили, что голос поэта зазвучал по-иному: более сдержанно, менее эффектно и, по замечанию Гайто Газданова, «почти тускло». Газданов увидел в стихах «Снежного часа» признаки «холодения» поэзии, посчитав, что «именно потому, что эти стихи написаны небрежно и непосредственно и похожи скорее на „человеческий“ документ, чем на поэтический сборник, они приобретают почти неотразимую убедительность, в которой чисто поэтический элемент отходит на второй план» [152].
Слова Газданова о «человеческом документе» [153]заставляют вспомнить о полемике между Георгием Адамовичем и Владиславом Ходасевичем о том, должна ли литература пожертвовать формальной красотой и гармонией ради правдивого отражения личного экзистенциального опыта художника [154]. «С какою рожею можно соваться с выдумкой в искусство? Только документ», — заостряет дискуссию Поплавский (По поводу… // Неизданное, 273).
Можно согласиться с Е. Менегальдо в том, что в «Снежном часе» Поплавский
более близок и верен своему поэтическому замыслу — писать с предельной искренностью. Отказ от «красивого» в пользу «некрасивого» и субъективного — это отказ от литературщины, халтуры и лжи во имя откровенности и правдивости. Следует, погрузившись в сугубо интимное, личное, с максимальной точностью улавливать и передавать колеблющуюся, неустойчивую стихию внутренних озарений, переживаний, мимолетных ощущений [155].
В то же время важно отметить, что максимально точно улавливать и передавать стихию внутренних переживаний можно лишь в том случае, если художник умеет посмотреть на себя со стороны, как сторонний пассивный наблюдатель:
Задача просто в том, — постулирует Поплавский, — чтобы как можно честнее, пассивнее и объективнее передать тот причудливо-особенный излом, в котором в данной жизни присутствует вечный свет жизни, любви, погибания, религиозности. Следует как бы быть лишь наблюдателем неожиданных аспектов и трогательно-комических вариаций, в которых в индивидуальной жизни присутствуют общие вечные вещи ( Неизданное, 94).
В «Снежном часе» Поплавский довольно далеко ушел от того понимания поэзии, которое изложил в небольшом тексте 1928 года (Заметки о поэзии // Стихотворение-II. Париж, 1928), в котором отдал предпочтение дионисийскому, динамическому началу и заявил, что «поэзия — темное дело, и Аполлон — самая поздняя упадочная любовь греков» ( Неизданное, 251).
Ощущение от стихов «Снежного часа» другое — художник, манипулирующий «разноцветными жидкостями», уступил в нем место скульптору, работающему с двумя цветами — черным и белым — и придающему своим душевным переживаниям четкую, статичную форму «холодных», «мраморных» образов:
Снег у Поплавского является и символом чистоты, и символом пустоты, молчания. Это молчание мира, не отвечающего на призыв поэта, но и молчание пустой страницы, белизна которой вводит его в состояние творческой прострации: «Молчание белой бумаги. Белый лист наводит на меня какое-то оцепенение. Как студеное поле, перед которым кажется неважным все — цветы и звуки» ( Неизданное, 163).
Молчание может быть «умудренным» молчанием философа, который сам запирает себя в башню, не желая, чтобы истина была профанирована людским «пустоговорением» (Хайдеггер): «Может быть, молчание статуй ближе к цели, чем подвижная болтовня людей» ( Неизданное, 163). Он как тот арестант из последнего стихотворения «Флагов», который на закате «молчит в амбразуре высокой тюрьмы», в то время как окружающий мир полон звуков.
Но есть и другое молчание — молчание в истоме, в изнеможении, когда молчать так же мучительно, как говорить. Медитация на грани сна и яви, медитация, которую окружающие принимают за глубокий сон, вдруг оборачивается оцепенением, прострацией. Постель как место медитации, религиозной и поэтической, превращается в «теплый гроб»: