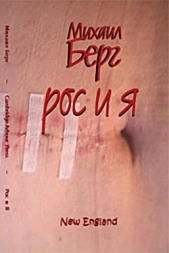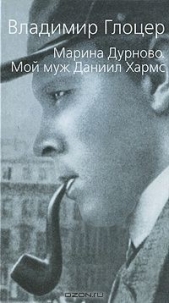Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Д.Хармса и С.Беккета

Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Д.Хармса и С.Беккета читать книгу онлайн
Даниил Хармс и Сэмюэль Бсккет ничего не знали друг о друге. Тем не менее их творчество сближается не только внешне — абсурдностью многих текстов, — но и на более глубинном уровне метафизических интуиций. Оба писателя озабочены проблемой фундаментальной алогичности мира, ощущают в нем присутствие темно-бессознательного бытия-в-себе и каждый по-своему ищут спасения от него — либо добиваясь мистического переживания заново очищенного мира, либо противопоставляя безличному вещественно-биологическому бытию проект смертельного небытия. Монография Д. В. Токарева, исследующая философские основы абсурдного творчества Хармса и Беккета, адресована литературоведам, философам, историкам современной культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дальше следует описание полового акта, причем именно в той его разновидности, которую обычно относят к перверсиям. Возвращение к сочинительству кладет конец эротической сцене:
М. Золотоносов справедливо отмечает, что в стихотворении «Жене» перо уподобляется фаллосу, а бумага — женскому половому органу [70]. Однако нужно отметить, что тем самым происходит сублимация сексуальной активности в творческую: по большому счету, творчество невозможно, если творец не способен противопоставить женской родовой стихии активность мужского творческого начала. Так, по Бердяеву, «мужское начало есть по преимуществу начало творящее, женское же начало есть по преимуществу начало рождающее» [71]. В этом противопоставлении и открывается, согласно философу, диалектика отношений материального мира и творчества; эта же диалектика лежит в основе хармсовской метафизико-поэтической концепции. Действительно, если «рождение происходит из природы, из утробы, и оно предполагает отделение части материи рождающего рождающемуся», то творчество «происходит из свободы, а не из утробы, и в нем никакая материя творящим не передается творимому» [72]. Несомненно, что понимание свободы как добытийственного ничто, которое предшествует всякому творчеству и которое только и делает возможным творение нового и ранее не бывшего, чрезвычайно близко Хармсу. Если, скажем, обратиться к уже упомянутой мной выше таблице и выстроить следующую цепочку понятий: пустота — творение — рождение, — то мы увидим, что творение предшествует рождению; эта же динамика сохраняется и в трактате «О существовании, о времени, о пространстве», в котором говорится о том, что сначала из пустоты возник мир и лишь затем человек. Надо, однако, сразу же отметить, что возникновение первого человека, Адама, не есть, собственно говоря, рождение, но осуществление божественного замысла, божественное творчество, антропогонический процесс, в котором первочеловек созидается из меонической свободы. Вот почему творение, по Хармсу, принадлежит еще эпохе Бога-Отца, райской эпохе, где царят безгрешность и религиозность: показательно, что в сценке «Грехопадение, или Познание добра и зла» Figura, символизирующая божество, обитает в церкви, стоящей в райском саду. Лишь грехопадение, которое ведет к отпадению от райской жизни, извращает природу творения: человек вкушает от древа познания, или, как говорит Бердяев, становится «по сю сторону добра и зла» [73]. Результатом является наступление следующей эпохи, эпохи греха, материализма и раздвоенного, «несчастного» сознания, для которого Бог становится полностью трансцендентным [74]. Причина грехопадения, согласно Хармсу, — женщина, Ева, соблазняемая дьяволом съесть яблоко с древа познания и, в свою очередь, соблазняющая им Адама. Дьявол знает, к кому обращаться: соблазняя Еву, он рассчитывает пусть на бессознательный, но довольно ярко выраженный сексуальный интерес Евы, которая сама предлагает ему сесть на нее верхом, то есть совершить символический половой акт.
В высшей степени характерно, что для Хармса познание добра и зла и познание сексуальное неразрывно связаны: в его насыщенном эротическими мотивами творчестве яблоко с древа познания лишь выводит на поверхность, делает осознанной ту скрытую, бессознательную сексуальность, которая составляет основу женской природы. Познание пола есть познание зла, и оно навязывается мужчине женщиной: если Ева, намереваясь съесть яблоко, лишь поддается своим бессознательным стремлениям, то, отведав его, она сразу же, и причем уже сознательно, требует от Адама удовлетворения ее сексуальности; она, увидев себя голой, хочет, чтобы он также осознал свою наготу и потерял тем самым свою невинность.
Первородный грех, — пишет Бердяев, — связан прежде всего с половым разрывом, с падением андрогина, с падением человека как существа целостного, с утерей человеческой девственности и образованием дурной мужественности и дурной женственности [75].
Хармсовские тексты демонстрируют ту же закономерность: грехопадение проявляется как возникновение пола и как потеря райской целостности, гармоничности, что приводит к появлению сознания, а всякое сознание, по словам Бердяева, есть сознание несчастное [76]. Хуже всего то, что появление сексуальности является тем детонатором, взрыв которого запускает в действие цепную реакцию причинно-следственных связей: утеря бессознательности райского существования влечет за собой осознание своей наготы и в результате стыд и потребность прикрыть ее. Только осознав наготу как что-то постыдное, человек и становится человеком; теперь он должен жить в мире, где «я» противоположно «ты», а «они» будут вечно стремиться подчинить себе конкретного человека, ассимилировать его «я». «Мне стыдно», — говорит Адам в хармсовском «Грехопадении», и это признание кладет начало пугающему «развертыванию», разрастанию мира, в котором каждый предмет требует появления другого, затягивая человека в паутину причин и следствий. Такое окружение себя предметами Хармс называет, в «Трактате более или менее по конспекту Эмерсена» (1939), неправильным (см. далее, с. 288–289 [77]).
3.4. Нагота и безгрешность
Мотив наготы вновь возвращает нас к феномену эксгибиционизма. Действительно, фраза Хармса «не надо стесняться своего голого тела» приобретает в данном контексте особое значение: если стыд характерен для эпохи материализма и греха, то бесстыдство знаменует собой возвращение в эпоху безгрешности и религиозности. Тезис о том, что эксгибиционизм Хармса вызван желанием продемонстрировать свою маскулинность, не только не противоречит данному положению, но и оказывается с ним тесно связанным: обнажение своего тела есть прежде всего вызов, который мужчина бросает всепоглощающей сексуальности женщины, надеясь редуцировать ее за счет противопоставления ей своей маскулинности. Этот вызов принимает подчас чрезвычайно агрессивную форму; садистское удовольствие, испытываемое Козловым («—Да, — сказал Козлов…»), с наслаждением смакующим подробности измывательств, которые пришлось претерпеть Елизавете Платоновне, объясняется все тем же стремлением умалить сексуальность женщины, разрушив привлекательность женского тела. Характерно, что Елизавета Платоновна однонога; тем самым подвергается радикальной редукции сама эротичность женского тела, имеющая, согласно Л. Липавскому, двойственную природу: с одной стороны, эротично то, что живет самостоятельной и безындивидуальной жизнью, то, что нарушает границы между объектами, разрушая их самость, и эта же «разлитая, неконцентрированная жизнь» внушает безотчетный страх:
В человеческом теле эротично то, что страшно. Страшна же некоторая самостоятельность жизни тканей и частей тела; женские ноги, скажем, не только средство для передвижения, но и самоцель, бесстыдно живут для самих себя. В ногах девочки этого нет. И именно потому в них нет и завлекательности.
Есть нечто притягивающее и вместе отвратительное в припухлости и гладкости тела, в его податливости и упругости.
Чем неспециализированнее часть тела, чем менее походит она на рабочий механизм, тем сильнее чувствуется его собственная жизнь.
Поэтому женское тело страшнее мужского; ноги страшнее рук, особенно это видно на пальцах ног.