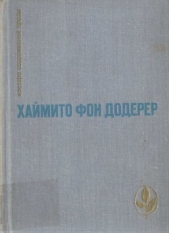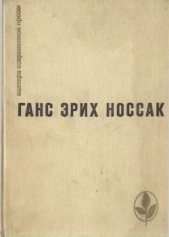Избранное
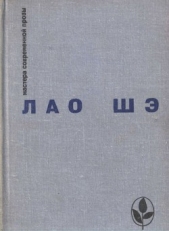
Избранное читать книгу онлайн
Лао Шэ — один из крупнейших китайских прозаиков XX века, автор многочисленных романов, рассказов и пьес, вошедших в золотой фонд современной китайской литературы.
В сборник включен роман «Рикша», наполненный глубоким гуманистическим содержанием, сатирический роман «Записки о Кошачьем городе», фрагменты незаконченного романа «Под пурпурными стягами» — о Пекине времен маньчжурских богдыханов, избранные рассказы, отрывки из биографических записок «Старый вол, разбитая повозка».
Сборник выходит к 15-летию со дня трагической гибели писателя от рук хунвэйбинов во время так называемой «культурной революции» в КНР.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В те времена я считал себя крупным мыслителем, поэтому без церемоний вставил в заглавие романа слово «философия». Философия!!! Теперь-то я познал себя: если у меня и есть хоть какие-нибудь достоинства, то отнюдь не в идейном плане. Чувства у меня всегда обгоняют рассудок. Я могу быть искренним другом, но умного совета от меня не дождешься. Когда эмоции заставляют мое сердце биться чаще обычного, я теряю способность к размышлению и начинаю исходить в своих оценках всего происходящего из самых распространенных поверхностных суждений. С одной стороны, это придает моим писаниям эмоциональность, но с другой — делает мои высказывания тривиальными. Конечно, многие полагают, что чувства в произведениях искусства более важны, нежели рассудок; но эмоции не могут помочь людям увидеть перспективу, они лишь застилают глаза слезами, которые порой, увы, ничего не стоят. Часто заставлять людей плакать значит скоро надоесть им. Пускаться в длинные рассуждения, основываясь лишь на неглубоких чувствах, — многим ли это отличается от пьяных излияний завсегдатая кабаков? Сейчас я научен горьким опытом, но десять лет назад я еще так не думал.
Впрочем, если бы я исходил только из своих эмоций, я, быть может, и написал бы выдающуюся трагедию. Но беда в том, что я не был последователен до конца: я хотел через эмоции ощутить вкус окружающего мира и в то же самое время пытался сдержать свои чувства, не позволяя себе произносить приговоры на основании одних лишь собственных симпатий и антипатий. Истоки этого противоречия лежат в моем характере и в окружающей среде. Я с детских лет рос в бедности и находился под сильным влиянием личности матери. Она принадлежала к тем людям, которые скорее будут голодать, чем попросят о помощи, но к другим относятся с большим благородством. Бедность воспитала во мне недовольство окружающим; материнская твердость обернулась во мне склонностью судить о других, исходя из собственных эмоций и взглядов; ее благородство — умением в той или иной мере сочувствовать людям. После сказанного не трудно понять, почему я люблю высмеять и побранить, но не хочу разить. Пусть я что-то теряю в сфере сатиры, зато кое-что приобретаю в царстве юмора. Говорят, что юмор включает в себя сочувствие. Я ненавижу плохих людей, но и у плохого человека могут быть свои достоинства; я люблю хороших людей, но и у хорошего человека могут быть свои недостатки. Недавно я открыл для себя, что «для бедняка хитрость есть средство добиться справедливости», а десять лет назад в моем отношении к миру в равных дозах смешивались ненависть и смех. Иногда говорят, что в «Философии Чжана» нет юмора, а есть лишь скука. Я не хочу ни соглашаться с этим, ни спорить. Есть люди, от рождения лишенные чувства юмора, — что ж, каждый на свой лад, и нечего об этом рассуждать. Другие горят желанием спасти мир, спасти страну или по крайней мере литературу и потому терпеть не могут юмора. Такие люди выступают с открытым забралом, и в этом, если не считать излишней самоуверенности, нет большой беды. Но пусть те и другие находят меня скучным — я полагаю неудобным оправдываться, но и не собираюсь бить себя по щекам. Иные понимают юмор, но считают, что я пересаливаю и в конце концов опять-таки заставляю скучать. С этим я готов согласиться. Как я уже говорил, приступая к сочинительству, я понятия не имел ни о мастерстве, ни о чувстве меры. Я писал, что придет в голову, хватался за какую-нибудь тему и громоздил гиперболу на гиперболу, не зная, где остановиться. Да еще в душе радовался легкости своего пера. Может это раздражать? Еще бы!
Но больше всего, наверное, вызывал раздражение стиль, в котором перемешивались разговорный и старый письменный языки. Стилистические ухищрения легче всего приводят к пустозвонству, но удержаться от этого соблазна очень нелегко. Когда имеешь дело со смешными ситуациями или фактами, естественно, хочется писать как можно смешнее, чтобы представить их более выпукло. Очень трудно в таких случаях остановиться вовремя. Лишь издав два или три романа, я понял, что сильные вещи — даже юмористические — не должны быть многословными. Тем не менее на практике я еще не сумел окончательно освободиться от этого порока. До чего же трудное дело — писать книги! Я могу лишь сказать, что до сих пор учусь. Не надо стесняться исправлять неудачна написанное, только тогда можно надеяться создать что-то лучшее. Я и в мыслях не представляю себя в гордой позе — мол, я сотворил шедевр. Все старания в лучшем случае позволят автору пореже краснеть за свое детище.
Мне осталось сказать еще несколько слов о том, как шла работа над «Философией Чжана».
Она заняла почти год: выпадало свободное время — писал понемногу, бывал занят — откладывал рукопись. Если бы не эти перерывы, столько времени не потребовалось бы. Писал я стальным пером поперек страницы на школьных тетрадях по три пенса за штуку, не очень заботясь о разборчивости почерка. Я упоминаю об этих мелочах, чтобы показать, что я вовсе не собирался удивить своим «творчеством» весь Китай — как уже говорилось, писал я для собственного удовольствия. Когда роман был окончен, в Лондон приехал Сюй Дишань [121]; однажды, исчерпав тему разговора, я прочел ему два отрывка из написанного. Он не высказался по поводу прочитанного, а лишь улыбнулся. Потом, он посоветовал мне, отослать рукопись в Китай. Я не решался — если и посылать, думал я, сначала нужно доработать. Но Сюй не сказал мне, какие места нуждаются в исправлении, сам же я, естественно, не ощущал собственного аромата. Тогда я махнул рукой и послал рукопись Чжэн Сиди [122] — просто бросил ее в почтовый ящик, даже незаказным письмом. Месяца через три «Сяошо юебао» неожиданно для меня решил публиковать роман. На радостях я устроил пир — съел в китайском ресторанчике чоп суй [123]. А о том, что было дальше, читатель узнает из следующих глав.
6. Как я писал «Записки о Кошачьем городе»
Все свои книги, начиная с «Философии Чжана», я отдавал в журнал «Сяошо юебао», а затем они выходили отдельными изданиями в типографии «Коммершэл пресс». Но вот рукопись романа «Озеро Даминху» сгорела вместе с типографией [124], а наборный экземпляр повести «День рождения Сяопо» пришлось впоследствии передать издательству «Шэнхо Шудянь». Журнал «Сяошо юебао» прекратил существование. Тогда-то ко мне обратился с предложением написать «большую вещь» Ши Чжэцунь — редактор «Сяньдай», единственного пользовавшегося успехом журнала в подвергшемся интервенции Шанхае. Так я впервые стал писать не для «Сяошо юебао». Этой «большой вещью» стали «Записки о Кошачьем городе». После публикации в журнале они вышли отдельной книгой в «Сяньдай Шуцзюй», и это явилось началом моего сотрудничества с другими издательствами, помимо «Коммершэл пресс».
Мне самому кажется, что «Записки о Кошачьем городе» не удались. Книга безжалостно открыла всем, какие ординарные у меня мозги. Дойдя до середины, я уже хотел было отложить перо, но обстоятельства не позволили мне пойти на это, и пришлось довести дело до конца. Некоторые считают, что «Записки» заслуживают похвал за то, что в них нет юмора, — точно так же, как Мэй Ланьфан вызывает восторг, имитируя исполнителей мужских ролей [125]. Но это говорит не о достоинствах книги, а лишь о том, что авторам высказываний надоел мой юмор. Когда приелись пшеничные лепешки на пару, и чумиза покажется ароматной — но такова ли она в действительности?
На самом деле в «Записках о Кошачьем городе» юмор должен был присутствовать: ведь это сатирическое произведение, а юмор и сатира строго различаются лишь в теории. На практике же между ними почти невозможно провести четкую грань. Чем злее сатира, тем живее и занимательнее она должна быть написана. Вымышленные персонажи и события должны быть представлены так подробно, объемно, естественно и полнокровно, чтобы у читателя не возникало сомнения в их подлинности. Только тогда скрытый до поры сатирический замысел сможет обрести достойное словесное выражение и будет достигнут желаемый эффект. О чем бы ни шла речь — об империи трехвершковых лилипутов или о Стране благородных педантов и зануд [126], — нужно прежде всего оживить персонажи, заставить события подчиняться воле автора и лишь потом высмеять достойное осмеяния, ударяя по больному месту. Вот тогда можно вызвать у читателя и смех, и слезы. Но чтобы достичь живости, легкости и изящества, необходим юмор. Можно обойтись и без него, но тогда нужны очень острое перо и очень умная голова, чтобы каждая пощечина оставляла красную полосу, чтобы за каждой молнией следовал гром. У меня нет ни такого пера, ни такой головы; когда же я отошел от более или менее освоенного мною юмора, «Записки» стали трепыхаться в пыли, подобно птице с перебитым крылом.