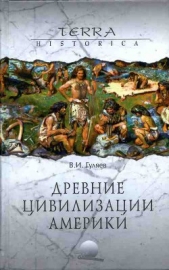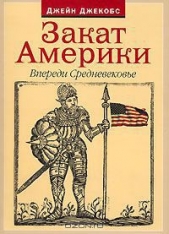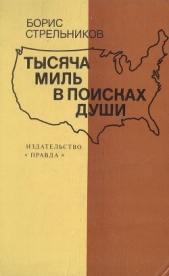Закат Америки

Закат Америки читать книгу онлайн
В монографии рассматривается одна из интересных в познавательном плане проблема будущего единственной сверхдержавы мира — закат Америки. На основании анализа современных проблем американской экономики и бизнеса, внешней и внутренней политики, семейно-брачных отношений, культурного разнообразия и религиозного плюрализма, философии и образования, иммиграции и этносов, музыки и социологии и других сфер жизни с позиций как американцев, так и неамериканцев показывается несостоятельность многих стереотипов об Америке. Рассмотрение концепций А. Тойнби, Д. Икеды, И. Валлерстайна, С. Хантингтона и других видных исследователей, а также привлекаемый обширный материал позволяет обрисовать картину заката белой англосаксонской Америки. Монография написана доступным языком, рассчитана на широкий круг читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А у кого их нет, этих «временных трудностей»? …Вы смотрите на телевизионный экран и сидите в своем кресле, вам чистят ваше либидо и подкручивают что-нибудь в вашем суперэго, и вы перестаете вожделеть места в Принстоне или Гарварде и зарплаты кинозвезды. О, как похожи «наши» на «ваших», а «ваши» на «наших», Мир на антимир, «скучно на свете, Господи».
Создатель умных точных ракет среднего и дальнего радиуса действия, глядя на черное звездное калифорнийское небо, думает вовсе не о Боге, вечности и смерти, а о том, как хорошо было раньше: тогда с каждой журнальной страницы смотрел на читателя громадный медведь с разинутой клыкастой пастью и маленькой кепочкой на макушке. Медведь напоминал не столько русского мишку, сколько американского гризли. Этот гризли раза в два больше своего евразийского собрата и раза в три, как где-то я читал, его злобное, а посему и охраняется американским законом. Объяснять ничего не нужно; все было ясно без слов: гризли намеривался изнасиловать западную демократию, испуганно притаившуюся в уголке. (Стройные ножки, шортики и сумочка с учебниками, перекинутая через плечо.) И вот нужно было соорудить как можно больше этих ракет, чтобы засадить этому гризли между глаз. И был «job», и было хорошо.
Глядя на небо, калифорниец думает о «job» и знает, что этому больше не бывать; от медведя отвалилась лапа и добрая треть туловища, клыки порядком прогнили, и случись даже, что, прекратив жалобный скулеж, он встанет на дыбы, — устрашит немногих. А поэтому не нужны будут умные ракеты и не будет «job». Никто не поможет штату Калифорния. Никто не поможет городу South Bend (Южный Изгиб), штат Индиана, где я живу. Никто не поможет мне. А поэтому, встречая свою деканшу (а я знаю, что деканша имеет на меня зуб), я говорю радостно «Хай!» Этот самый «хай» в буквальном переводе означает «привет», но смысл его гораздо шире. «У меня все отлично, и я бесконечно рад видеть вас». И деканша отвечает мне: «Хай!»
Я живу в маленьком городке, городке Среднего Запада, этот «средний запад» что-то вроде русской средней полосы; это сердце Америки или, можно сказать, самая американская Америка, кондово—сермяжно—кукурузно-пролетарская. Изредка я отправляюсь в Чикаго, он рядом, да и там самый, что плодит Нобелевских лауреатов по экономике и «чикагских мальчиков», наивных Аль Капоне перестроечных реформ. В воскресенье, субсидируемый городским бюджетом, транспорт замирает, а у меня нет машины, как и телевизора, кредитной карточки (это свидетельствует, что за долгие годы, проведенные в Америке, я не вписался в американскую жизнь). Можно взять такси, но я перевожу стоимость проезда в рубли, ужасаюсь, вспоминаю о невыплаченных студенческих долгах, декане и иду пешком. Через весь город. Я прохожу центр (суд со статуей Свободы, точной копией нью-йорской, тюрьма, рядом с судом, мэрия и памятник северянам, погибшим в «той гражданской») и прихожу на станцию. Там маленький зал ожидания, где можно купить в автомате кофе и что-то вроде соленого бублика; я бросаю двадцатипятицентовики в утробу автомата и получаю кофе и пакет с бубликами. Со стены на меня смотрят портреты отцов-основателей, первопроходцев Индианщины с суровыми лицами и длинными хасидскими бородами. Насладившись бубликами, я выхожу на перрон и смотрю на полотно. Проходят поезда, иногда с новенькими машинами; я на границе Мичигана, с его Детройтом, автомобильным сердцем Америки, я провожаю эти машины глазами. Я знаю, что все они обречены.
Солнце восходит на востоке, и я вижу миллионы «Тоет», созревших в икринках где-нибудь под Токио, они спешат на страшный, невидимый бой, рассекая евразийскую равнину отточенным монгольским клином: панмонголизм — то слово дико. Нет, оно не ласкает мне слух. «Так высылайте ж к нам, витии своих озлобленных сынов…» Россия не окажет им сопротивления. Ее полки рассыпятся, разбегутся от первого удара и, оскалив зубы в вежливой улыбке, нукер из Мицубиси подтолкнет великого князя Московского острием компьютерного диска к ногам властелина. И великий князь, упав, распластавшись перед ним, получит в подарок шариковую авторучку и ярлык на Курильское княжение.
Фыркая от похоти и предчувствия боя, катафрактарии, плюхнутся в Атлантический океан; орды Хубилая цунами пойдут не с запада на восток, а с востока на запад. Где-нибудь под Калифорнией или Мичиганом их встретят отборные полки, встанут в ряд, закованные в лучшую компьютерную броню американских компаний.
Сначала в атаку пойдет текстиль, но его отобьют потогонные мастерские Нью-Йорка, а вдогонку, рассыпая по дороге смертоносный груз по фермам Европы, посыпятся на рисовые поля Хоккайдо кукуруза Lowa и картофель Idaho. А сверху американский летчик будет видеть, как в адских языках пламени, в сухих лепестках сушеного картофеля корчится соломенное золото фанз и истекают белым вином виноградники Прованса. А напоследок откроется чрево бесчисленных складов, чтобы засыпать горами сыра и сухого молока.
Но это будет лишь начало боя, потому что трубит рожок и, сомкнув ряды, тяжело и мерно пойдут в атаку компьютеры; это будет страшная сеча, и будет стоять насмерть силиконовая долина, но заброшенные в тыл мобильные полки карманных калькуляторов и электронных часов расстроят американские ряды, и тысячи, сотни тысяч, миллионы калифорнийцев встанут у окошек бирж труда.
Кольцо сомкнется, захлестнется петлей на черно-пролетарской шее Детройта, но угрюмо будет стоять в каре, гаечные ключи и отвертки в потных руках. «Старая гвардия», она помнит Ваграм и «солнце Аустерлица» и на предложение сдаться отвечает глухо, но внятно: "Fuck you! I need my job!»
И полки калькуляторов остановятся, смущенно и трепетно, ибо им покажется, что император снова надел свои «итальянские сапоги», но тут снова протрубит рожок, завизжат миллионы сигналов, и новенькие, выкатившиеся из чрева кораблей, «тоеты» пойдут в атаку с фронта, тыла и флангов. А за ними, помня унижения, покатятся союзные «Вольво» и «Фольксвагены», посыпятся сверху сыры Лангедока и немецкие окорока. А затем в прорыв напалмом польется русская водка из вассального нижегородского княжества, и девочки с Арбата (блондинки в черных, а брюнетки в белых чулочках), визжа, пойдут на приступ Лас-Вегаса.
Пощады не будет никому. И везде — на корпусах машин, на куриных ножках, на ягодицах девочек — будет светиться Валтасаровым клеймо : «Made in Japan». Ржавые, никем не убранные черепа кабин покроют равнину от Калифорнии до Новой Англии.
Я сижу в своем офисе, дверь открыта. Я должен быть доступен для масс и, если ко мне пожаловала студентка, всем должно быть видно, что я ничего себе не позволяю. Студентки и студенты приходят редко, кроме одной. Это японка. Она забрела в кукурузную провинцию, глухой тыл врага, чтобы обучится его языку и узнать его секреты. Она слегка склоняет почтительно голову в традиционном японском поклоне (ей не привились демократические традиции и права большинства ) и включает магнитофон «Made in Japan, и начинает слушать о том, что такое «революция сверху и сталинизм. Я говорю ей, доверительно и авторитетно, как азиат азиату, что Он был жестокий властитель, создатель великой евразийской империи, которой нет. Мигает красная лампочка магнитофона, и я смотрю в её послушные агатовые глаза. Прощаясь, она спрашивает: А экзамен будет как раньше ? Ага. Три вопроса на выбор и краткий ответ на несколько маленьких вопросиков.
Россия умерла. Америка умирает. Ещё в прошлом веке Токвиль, побывший в Америке совсем немного, а в России вовсе не бывавший, заметил, что будущее принадлежит двум этим странам. И оказался прав. Они срослись в смертельной вражде, насильник и насилуемый. Две сверхдержавы злобно топорщили термоядерные фалосы. Смерть одного оказалась смертью другого. Америка просто не осознала ещё этого. Америка умрёт, Россия умерла, но они встретят смерть по-разному.
Россия не верит, что время молодости и силы прошло, что морщины смяли лицо и обвисло кожа, что она уже не самая обольстительная и привлекательная и народы мира не оборачиваются, когда она проходит по одной шестой части суши на высоких каблучках. Она не поверит зеркалу и начнёт мазаться и краситься Федоровыми, Бердяевыми, а то и просто Кашпировскими и ждать жениха с Запада. (Так, кажется утверждал Бердяев ? ). И пустится во все тяжкие с юными и не очень юными эфебами. И жених придет. Моложавый, весёлый, с честным открытым лицом. Он будет вежливым и обходительным, будет поить валютным кофе и потчевать солёными сухариками и не тащить сразу на койку, как пьяненькие дядечки из ближнего зарубежья. Он приведёт её на смотрины, в кафе-конгресс. Она наденет по этому случаю самую лучшую и самую короткую юбочку и скажет господам. что при манишках и галстуках, что она всегда принадлежала Западу, что бы там не говорили злопыхатели. И господа в галстуках одобрительно загудят и одарят её аплодисментами. Местная пресса отметит, что аплодировали не раз. А затем они (она и жених) придут к ней домой. Она добудет свечи. Ведь кажется, так это происходит на Западе ? Она побежит на рынок и купит за последние гроши мясо, овощи и вино и зажжет свечи (Предварительно она, конечно, отключит телефон, чтобы, не дай Бог, не звякнул кто-нибудь из знакомых эфебов или, упаси Боже, кто-нибудь из ближнего зарубежья ). Они откушают мясо и пригубят вино, а затем она сядет на кровать. Господин подсядет к ней и возьмет ее за руку, и ее глаза загорятся. Он скажет ей, что она ему очень нравится и он хотел бы создать семью, а еще его интересуют безделушки, которые, он знает, лежат в комоде. Она принесет их, фамильные драгоценности, всякие там ракетки и бомбочки и скажет ему, что собирали их еще дедушка Брежнев и прадедушка Сталин и это, в общем, все то, что у нее осталось. Жених с Запада возьмет эти безделушки, подержит, посмотрит на свет, попробует на зуб. Многое подгнило, проржавело за семь эпических лет, но еще отличные вещицы старой имперской пробы. И глаза его загорятся, и он скажет, что вовсе ей они не нужны, потому что они вскорости поженятся, и он введет ее в европейский дом, а затем он наклонится к ней и нежно поцелует ее в губы. Губы ее приоткроются, она тяжело задышит и откинется на подушку в ожидании того, что торопливые и дрожащие от волнения пальцы начнут расстегивать крахмальную кофточку или сразу полезут под юбку, как поступали знакомые эфебы из дальнего зарубежья. (Готовясь к этому важному событию она раздобыла трусики с клеймом из дальнего зарубежья и надела черные чулочки.) Но жених с Запада, отпрянув и поправив галстук, скажет, что она, конечно, ему очень нравится, но он уважает ее как человека, как личность и вовсе не видит в ней только «sexual object». Это, значит, когда на женщину смотрят не как на личность, а как на предмет для удовлетворения мужской похоти. С этим на Западе строго.