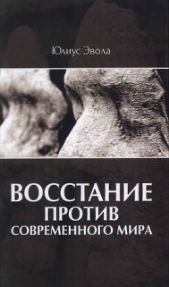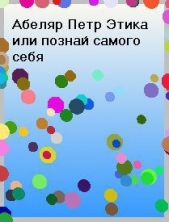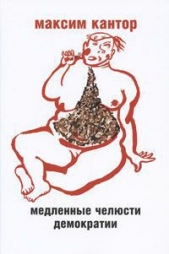Восстание элит и предательство демократии

Восстание элит и предательство демократии читать книгу онлайн
Растущая обособленность элит означает, наряду с прочим, что политические идеологии теряют касательно к заботам обычных граждан. Поскольку политическая дискуссия, как правило, остается внутренним делом так - и метко - называемого "говорящего сословия", она все более замыкается на себе и формализуется. Идеи запускаются и вновь принимаются в оборот как слова-зуммеры или как стимулы условных рефлексов. Старый спор между левыми и правыми истощил свою способность прояснять проблемные темы и предоставлять достоверную карту реальности. В некоторых кругах сама идея реальности стала сомнительной - возможно, потому, что говорящее сословие обитает в искусственном мире, где ситуация реальности занимает место самих реальных вещей.
Пер. с англ./ Перевод Дж. Смити, К Голубович. М.: Издательство "Логос", Издательство "Прогресс". 2002. – 224 с.
ISBN 5-8163-OO31-8
Copyright © 1995 by the Estate of Christopher Lasch.
© W. W. Norton & Company. New York – London.
© Русское издание — Издательство «Логос» (Москва) (2002).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Непросвещенным прошедшим векам могло бы проститься, что они верили в то, во что ни один образованный человек не поверит в 20—м веке, или что они буквально принимали мифологии, которые скорее следовало бы понимать в иносказательном или метафорическом смысле; можно было бы даже простить современный пролетариат, не допущенный до образования в силу его обреченности тяжелому труду, но буржуазный филистер жил в просвещенный век, имея легкий доступ к просвещенной культуре, однако намеренно не захотел увидеть света, чтобы тот не рассеял иллюзий, столь важных для его душевного покоя. Интеллектуал, во всяком случае, единственный, кто смотрел не мигая прямо на свет.
Утратившая иллюзии, но сохранившая стойкость – именно так видит себя современность, настолько гордая своим интеллектуальным раскрепощением, что она даже не делает попытки скрыть ту духовную цену, которую приходится за это платить. Снова и снова комментарий по поводу духовного состояния современности — по поводу человеческой души в современную эпоху, по поводу "современного темперамента", как именует его Джозеф Вуд Кратч, – снова и снова комментарий этот возвращается к своей излюбленной биологической аналогии, как к неким строительным лесам, которыми ограничивается проблема. Пользуется ею и Кратч: Современный темперамент, изданный в 1929 году и предсказуемо осужденный теми филистерами, раздражить которых ему и не терпелось, как чрезмерно пессимистическое описание современного положения, начинается (не менее предсказуемо) с противопоставления детской невинности и опыта. Кратч начинает прямиком с Фрейда: "Это одно из причудливых измышлений Фрейда, что дитя в материнской утробе — счастливейшее из живых существ". Кратч не отвергает этого "причудливого измышления", как это можно было бы ожидать, доверившись первому впечатлению; вместо этого он, подобно самому Фрейду, развивает тот ход мысли, что "расы, как и отдельные люди, имеют свое детство, свое отрочество и свою зрелость". По мере того, как раса обретает зрелость, "вселенная становится все более и более тем, что открывается в опыте, все менее и менее тем, что создается в воображении". Человек с неохотой узнает, что должен полагаться только на самого себя, а не на сверхъестественные силы, созданные по его образу и подобию. "Словно ребенок, который растет и мужает, он переходит из мира, подлаженного под него, в мир, к которому он должен подладиться сам". На социальном уровне процесс еще не закончен, поскольку современный мир полностью не изжил своего прошлого. Его трудности сравнимы с теми, в какие попадает "подросток, еще не научившийся ориентироваться без оглядок на мифологию, которой было окружено его детство".
Существует большой корпус комментариев на современное духовное состояние, и всеми ими полагается, что опыт сомнения, морального релятивизма и т. д. является однозначно современным. Я привел всего несколько показательных образцов, но более исчерпывающий и систематический обзор этой литературы лишь подтвердил бы центральную важность образного ряда, которым сопоставляются история культуры и цикл жизни отдельного человека. Вслед за Крат-чем мы могли бы назвать причудливым измышлением эту умственную привычку подчеркивать нашу разочарованность в противопоставление невинности наших предков, но нам тем не менее следует учесть то, что она проистекает из какого угодно, но только не причудливого, импульса, ведущего к весьма серьезным последствиям, не самое последнее из которых — препятствование пониманию жизненно важных вещей. В ней сказывается предрасположенность к прочтению истории или как трагедии утраты иллюзий, или как прогресса критического разума. Я говорю "или – или", но, конечно, эти два варианта исторического мифа модернизма тесно связаны; по правде говоря, они симбиотически взаимозависимы друг от друга. Полагается, что прогресс критического разума как раз и ведет к утрате иллюзий. Разочарованность представляет собой цену прогресса. Ностальгия и понятие прогресса, как я доказывал в Истинном и единственном рае, идут рука об руку. Предположение, что наша собственная цивилизация достигла уровня сложности, не имеющего себе равных, порождает ностальгическую тоску по минувшей простоте. С этой точки зрения, отношение прошлого к настоящему определяется прежде всего контрастом между простотой и изощренностью.
Преграда, отделяющая прошлое от настоящего, – непреодолимая преграда для современного воображения — это опыт разочарованности, который делает невозможным возвратить себе невинность былых дней. Можно сказать, что разочарованность – это характерная форма гордости в эпоху современности, и эта гордость не менее очевидна в ностальгическом мифе о прошлом, чем в более агрессивно-триумфальной версии культурного прогресса, без сожалений отбрасывающей прошлое. Внешне акт воссоздания прошлого ностальгией представляется продиктованным любовью, но она воскрешает прошлое лишь затем, чтобы заживо его похоронить. Она разделяет с верой в прогресс, которому лишь на первый взгляд противостоит, тот пыл, с каким она провозглашает кончину прошлого и отрицает за историей участие в настоящем. И те, кто оплакивает кончину прошлого, и те, кто его превозносит, считают само собой разумеющимся, что наш век перерос свое детство. И те и другие находят трудным поверить, что история все еще не покинула наше просвещенное, лишенное иллюзий отрочество, или зрелость, или старость (как бы там ни определяли современную фазу жизненного цикла). И теми и другими правит, в их установке по отношению к прошлому, преобладающее неверие в привидений.
Возможно, наиболее существенной утратой, вызванной распространением такого умственного склада, стала утрата правильного понимания религии. В комментариях на современное духовное положение религия последовательно трактуется как источник интеллектуальной и эмоциональной безопасности, а не как вызов самодовольству и гордыне. Ее этические наставления превратно истолковываются как корпус простых заповедей, не оставляющих места двусмысленности или сомнению. Вспомните у Юнга описание средневековых христиан, как "чад Господа, знавших наверняка, что им следует делать и как им следует себя вести". Кратч во многом говорит то же самое. Как он считает, средневековая теология сделала жизненное поведение "точной наукой". Она предлагала "план жизни", который был "восхитительно прост". Средневековые христиане "принимали божественные законы, точно таким же образом, как современные ученые принимают законы природы", и это слепое повиновение авторитарной науке о нравах, по мнению Кратча, оказывается единственной альтернативой "моральному нигилизму". "Как только ты усомнишься в обоснованности божественных законов, понимаемых как первоначала науки, которой случилось называться теологией, или как только ты задашься вопросом о цели жизни", ты покатишься по скользкому откосу к релятивизму, моральной анархии и культурному отчаянию.
Под вопрос здесь нужно поставить то предположение, что религия когда-либо предоставляла систему исчерпывающих и однозначных ответов на этические вопросы — ответов, абсолютно неуязвимых для скепсиса, или что она предупреждала размышление о смысле и цели жизни; или что религиозным людям прошлого было неведомо экзистенциальное отчаяние. Хватило бы и одного знаменитого собрания песен, сочиненных средневековыми семинаристами, готовящимися ко рукоположению в сан, "Carmina Burana", чтобы развеять подобные представления; эти тревожащие душу произведения высказывают извечное подозрение, что мирозданьем правит случай, а не провидение; что у жизни нет высшей цели и что самая лучшая духовная мудрость — это наслаждаться жизнью, пока можешь.
Или стоит задуматься о разнообразии религиозного опыта, проанализированного Уильямом Джеймсом в его одноименной книге, одной из немногих книг о духовном кризисе современности (если это и в самом деле ее содержание), которая выдержала испытание временем отчасти – странно сказать – из-за своего полнейшего безразличия к вопросам исторической хронологии. Для читателей, сформированных осознанно современной традицией, на которую я ссылаюсь, это безразличие к хронологии могло бы показаться слабостью книги Джеймса, но в том-то как раз и состоит его главная мысль, что глубочайшее разнообразие религиозной веры ("тип дважды родившихся", как он это называет) всегда, во все времена, возникает из глубины отчаяния. Религиозная вера утверждает благо существования перед лицом страдания и зла. Черное отчаяние и отчуждение — имеющие своим источником не исключительно современные впечатления, но всегдашнее чувство горечи в отношении Бога, который позволяет процветать злу и страданию, – часто становятся прелюдией к обращению. Осознание "предельного зла" ложится в основу духовного опьянения, которое, наконец, приходит с "умягчением" и "отказом от себя". Опыт дважды родившихся, по Джеймсу, более мучителен, но эмоционально более глубок, нежели опыт "здравомыслящих", поскольку он настоян "на отраве меланхолии". Не имея сознания зла, тип религиозного опыта однажды родившихся не может выстоять перед превратностями судьбы. Он оказывает поддержку лишь до той поры, пока не встретился с "разлагающими унижениями". "Чуть поостынут животная чувствительность и инстинкты, чуть поутратится животная выносливость, и вот червь в сердцевине источников всех наших обычных удовольствий уже на самом виду и превращает нас в меланхолических метафизиков". Когда это произойдет, нам потребуется более суровая вера, которая признает, что "жизнь и ее отрицание нерасторжимо связаны и их не развязать" и что "все природное счастье поэтому кажется пораженным противоречием". Если даже все идет хорошо, то смертная сень нависает над нашими радостями и победами и ставит их под вопрос. "За всем маячит великий призрак вселенской смерти, всеохватный мрак".