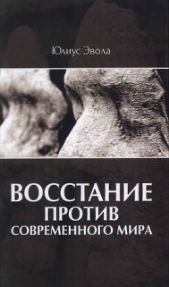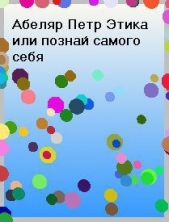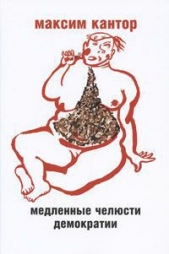Восстание элит и предательство демократии

Восстание элит и предательство демократии читать книгу онлайн
Растущая обособленность элит означает, наряду с прочим, что политические идеологии теряют касательно к заботам обычных граждан. Поскольку политическая дискуссия, как правило, остается внутренним делом так - и метко - называемого "говорящего сословия", она все более замыкается на себе и формализуется. Идеи запускаются и вновь принимаются в оборот как слова-зуммеры или как стимулы условных рефлексов. Старый спор между левыми и правыми истощил свою способность прояснять проблемные темы и предоставлять достоверную карту реальности. В некоторых кругах сама идея реальности стала сомнительной - возможно, потому, что говорящее сословие обитает в искусственном мире, где ситуация реальности занимает место самих реальных вещей.
Пер. с англ./ Перевод Дж. Смити, К Голубович. М.: Издательство "Логос", Издательство "Прогресс". 2002. – 224 с.
ISBN 5-8163-OO31-8
Copyright © 1995 by the Estate of Christopher Lasch.
© W. W. Norton & Company. New York – London.
© Русское издание — Издательство «Логос» (Москва) (2002).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Авторы сборника В защиту гуманитарных наук сжато формулируют позицию скептицизма, отвечая правым критикам современных течений в гуманитарных науках: "Мы научились спрашивать, не содействуют ли в действительности универсалистские притязания личным интересам какой-то особой группы, которая выдает их за норму, оттесняя интересы других групп как частные или ограниченные". Но "универсалистские притязания" нельзя так легко отмести. Как давным-давно учил нас Грамши, никакая идеология никогда не добьется "гегемонии", если она служит просто для того, чтобы придать законный характер интересам какого-то особого класса и "оттеснить" интересы других. Именно их способность обращаться к извечным человеческим нуждам и стремлениям и делает идеологии неотразимыми, пусть даже в своем видении мира они по необходимости слепы к своим собственным ограничениям. В тех пределах, в каких идеологии выражают всеобщие устремления, критики должны их оспаривать, стоя на той же почве, а не просто отметать их как рационализации, обслуживающие некие частные интересы. Потребность спорить на этой общей почве — не универсальное согласие по поводу эпистемологических обоснований – и есть то, что создает возможность всеобщей культуры.
Кимболл справедливо подчеркивает потребность в общей культуре, но его негибкое разграничение между "объективным", "непредвзятым мнением" и "partis pris [9] лоббизма" – между "беспристрастным описанием и фанатичной пропагандой", "правдой" и "внушением", "рассудком" и "риторикой" – оставляет мало места для важного труда интеллектуальных дискуссий. Описание никогда не бывает "бесстрастным", если только оно не относится к мелким или незначительным предметам; мнение никогда не бывает полностью "непредвзятым". Огульные нападки Кимболла на "антифундационалистский символ веры" подразумевают, что общая культура должна вызывать универсальное согласие и что, стало быть, гуманитарное преподавание должно опираться на некий канон неоспоримой классики. Но каноны вечно оспариваются, вечно пересматриваются. Представьте, как выглядел канон американской литературы лет сто назад: один Лонгфелло с Уитти-ром, никакого Уитмена, или Мелвилла, или Торо. Сегодня беда с гуманитарными науками не в том, что люди хотят пересмотреть канон, а в том, что слишком многие из них не хотят утруждаться спором о включении или исключении конкретных произведений. Они заняты не спорами, а безоговорочным отметанием всего, часто на том основании, что эстетическое суждение является безнадежно произвольным и субъективным. Практическим результатом критицизма такого рода оказывается введение параллельных курсов – один для женщин, один для темнокожих, один для испаноговорящих, один для белых мужского пола – или превращение старого курса в лоскутное одеяло (как в Стэнфорде) по принципу одинакового количества часов. И в том и в другом случае аргументированный спор оказывается за бортом, но он будет за бортом и в том случае, если мы займем позицию, согласно которой не следует близко подпускать к образованию "политику". Это не "политика" (как объявляет Кимболл в своем подзаголовке) "разложила наше высшее образование", а предрассудок, что политика – это другое название для войны. Если политика – это не более чем "идеологическая поза", по выражению Кимболла, ясно, что она не может иметь ничего общего с "разумом", "непредвзятым мнением" или "истиной". Тут опять университетские левые оказываются в полном согласии с правыми. И те и другие придерживаются того же уничижительного взгляда на политику как на право сильнейшего, соревнование крикунов, где заглушается голос рассудка.
Правые и левые разделяют другой важный предрассудок: что университетский радикализм по сути своей имеет "подрывной" характер. Кимболл принимает радикальные притязания академистских левых за чистую монету. Он не одобряет "радикалов на должности" не потому, что их больше интересует должность, нежели радикализм. Он не одобряет их потому, что, на его взгляд, они пользуются защищенностью своего академического положения, чтобы разрушать основы социального порядка. "Когда дети 60-х получили свои профессорства и деканства, они не оставили мечты о радикальном преобразовании культуры; они принялись проводить ее в жизнь. Теперь, вместо попыток разрушить наши образовательные заведения физически, они подрывают их изнутри". Без сомнения, им хотелось бы так думать, но их деятельность не угрожает всерьез корпоративному контролю над университетами, а именно корпоративный контроль, а не академический радикализм, и "разложил наше высшее образование". Именно корпоративный контроль оттянул социальные ресурсы от гуманитарных наук в военные и технологические исследования, выпестовал одержимость количественными методами, разрушившую общественные науки, вытеснил английский язык бюрократическим жаргоном и создал раздутый административный аппарат, для которого вся просветительская картина начинается и заканчивается нижней строчкой бухгалтерского баланса. Одним из следствий корпоративного и административного контроля оказывается изгнание критически мыслящих людей из общественных наук в гуманитарные, где они могут потворствовать своему пристрастию к "теории" без жесткой дисциплины эмпирической социальной поверки. "Теория" никак не может заменить социальную критику, единственный вид интеллектуальной деятельности, который мог бы серьезно угрожать статус кво: ее единственный вид, на котором нет печати академического престижа вообще. Социальная критика, которая бы обращалась к настоящей проблеме высшего образования сегодня – процессу поглощения университета корпорациями и возникновения сословия знающих, чья "подрывная" деятельность не представляет серьезной угрозы никаким капиталовложениям, – была бы желанным дополнением к современному дискурсу. По понятным причинам, однако, этот тип дискурса едва ли встретит большую поддержку как со стороны левых академических преподавателей, так и со стороны ее критиков справа.
ЧАСТЬ 3 ТЕМНАЯ НОЧЬ ДУШИ
ГЛАВА XI УПРАЗДНЕНИЕ СТЫДА
Те, кто пишет о стыде, любят начинать с сетований на постыдное небрежение предметом со стороны их предшественников. Если им случается быть психиатрами, они настойчиво утверждают, что стыдом не просто пренебрегали, но активно его подавляли. Наступило время, говорят они, поднять покрывало цензуры "и достать стыд из чулана", пользуясь словами Майкла Николса. Их эго-концепция требует образов дерзновенного поиска, покорения запретной территории. Даже когда они отрицают все остальное в работах Фрейда — а нынешняя мода на стыд совпадает с растущим неприятием Фрейда, — нынешнее поколение психотерапевтов находит его иконоборчество неотразимым: его манеру ни во что не ставить принятые каноны скромности и сдержанности, его требование выговаривать то, чего не вымолвить.
Фрейд имел полное основание видеть себя незваным одиночкой, храбро рискующим своей профессиональной карьерой в погоне за знанием, которое все остальные предпочитали скрывать. Новые археологи стыда, с другой стороны, входят в поле, уже раскопанное антропологами, послевоенным поколением психоаналитиков (многие из которых были беженцами из нацистской Германии, хорошо знакомыми с социальным привкусом стыда) и, коли на то пошло, Дейлом Карнеги и Норманом Винсентом Пилом, обнаружившими важность самоуважения задолго до того, как психиатры и психологи, занимающиеся проблемами роста, договорились определять стыд как отсутствие самоуважения и начали предписывать соответствующие лекарства. Стыд, новейшая площадка напряженных изысканий, где теоретики и клиницисты бьются в поисках погребенного сокровища, больше не является пренебрегаемым предметом и уж тем более запретным. Дональд Л. Натансон признает, что он стал более чем "модным".
Во всяком случае обвинение в сокрытии кажется, на первый взгляд, невероятным. Разве есть что-нибудь, что бы наша культура еще пыталась скрывать – то есть что-нибудь, на шоковую ценность чего может быть создан спрос? Нас уже ничто не может шокировать, менее всего интимные откровения о личной жизни. Средства массовой информации, не колеблясь, выставляют напоказ самые дичайшие извращения, самые вырожденческие желания. Моралисты извещают нас, что слова "дичайший", "извращенный" и "вырожденческий" относятся к дискредитировавшей себя, чрезмерно "осудительной" терминологии иерархии и дискриминации. Единственная вещь, запрещенная в нашей культуре выставления всего напоказ, это наклонность запрещать – полагать предел разоблачению.