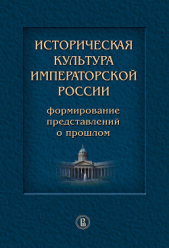Д. Л. Бранденбергер Национал-Большевизм. Сталинская массовая культура и формирование русского национ

Д. Л. Бранденбергер Национал-Большевизм. Сталинская массовая культура и формирование русского национ читать книгу онлайн
В 1930 годы Сталин и его окружение, озабоченные задачей мобилизации советского общества для грядущей войны, организовали пропагандистскую кампанию по "реабилитации" славных деятелей русского национального прошлого. В своем исследовании Д.Л.Бранденбергер прослеживает историю популистской идеологии "национал-большевизма" от 1930 годов вплоть до середины 1950 годов, обнаруживая, что идеология эта, вразрез с намерениями ее творцов, стала катализатором формирования русского национального самосознания.
Раскрывая истоки "национал-большевизма" в ближайшем окружении Сталина, автор прослеживает, каким образом новая идеология внедрялась в советское общество через систему образования и массовую культуру. Важнейшей частью исследования становится попытка реконструкции "общественного мнения" сталинской эпохи, следы которого извлекаются из писем и дневников современников, из секретных сводок НКВД. "Советский человек", советское самосознание, как правило, ассоциируется с идеологией "классового сознания". Бранденбергер доказывает, что, особенно на массовом уровне, идеология сталинизма в большей степени может быть связана с русским национализмом, нежели с пролетарским интернационализмом.
Эта книга не только помогает понять, почему такое мировоззрение пережило Сталина, но и проливает свет на причины возрождения соответствующих настроений в современной России.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Однако подобный шовинизм был характерен не только для творческой интеллигенции. В отношении победы украинской оперы на конкурсе в Москве, осведомители НКВД в Ленинграде докладывали, что даже рядовые горожане на улицах говорят «что украинцев наградили не потому, что они достойны этой награды, а исключительно из политических соображений, что украинцами показаны народные песни и танцы и никакого высокого, серьезного искусства у них нет и т. д.». В письме к Жданову в 1938 году ленинградский рабочий с большим стажем призывал партийного деятеля проводить больше времени в цеху среди рабочих, добавляя саркастически, что это было бы полезнее, нежели присутствие на декаде азербайджанского искусства в Москве [426]. Еще предосудительнее поведение красноармейца Милованова, работавшего в гарнизонной столовой в Горках. Он налил казаху Хайбулаеву только полпорции борща; когда тот указал ему на ошибку, Милованов заявил: «Ты казах, значит полчеловека, ну я тебе и налил, сколько положено» [427]. Безусловно, шовинизм присутствовал в русскоговорящем обществе еще с царских времен [428], однако советская печать со свойственной ей ориентализацией нерусских культур была склонна не придавать подобным случаям особого значения, накапливая все новые способы усиления массового руссоцентризма. Вероятно, наиболее показательным в этом отношении является отрывок из дневника писателя В. Вишневского, который, по всей видимости, пребывая в возбужденном состоянии, писал в 1940 году о своих опасениях, связанных с грядущей войной:
«Россия, СССР должны будут биться на смерть — это уже не европейские шуточки. Мы русские. Будь прокляты. Мы бивали немцев и татар и французов и бриттов и многих еще — мы помрем, жить иначе не стоит. Но мы будем биться за себя, за вечный 180 миллионов русский народ; [пусть рядом бьются украинцы, это крепкие парни… про других не могу толком сказать не тот закал…] мы будем драться…. Мы огромная и сильная нация, и идти в полон, в подчинение мы не хотим. Я видел, я знаю запад. Он сидит как проклятая заноза в душе: я видел всю их цивилизацию, все их прелести и соблазны…. Менять свое национальное историческое на европейский стандарт — никогда, никак».
Очевидно обеспокоенный своим собственным вырвавшимся наружу шовинизмом, Вишневский вычеркнул наиболее шовинистические строки (в вышеприведенной цитате они заключены в квадратные скобки). Несмотря на такую самоцензуру, воинственное чувство национальной гордости, соединенное со склонностью связывать воедино русское национальное прошлое и советское настоящее, вполне явственно и в оставленном тексте [429]. Утверждения об особом характере и самобытности русского народа, — надо признать, довольно редко встречающиеся в столь резких выражениях, — тем не менее, можно найти в дневниках второй половины 1930 годов, например, у Пришвина и Вишневского [430].
Многие из процитированных здесь мнений являются важной характеристикой восприятия официальной линии русскоговорящим обществом в конце 1930 годов: по-видимому, лишь немногие понимали, что, согласно замыслам пропагандистов режима, национал-большевистская система образов и тем была призвана ревальвировать государственное строительство, а не русский национализм как таковой [431]. Вероятно, не обращая должного внимания на другие темы партийной пропаганды, становившиеся все более привычными (интернационализм, служение партии), эти люди были поражены — сознательно или неосознанно — государственным выбором старорежимных героев, мифов и иконографии. Вероятно, у некоторых сложилось впечатление, будто новый идеологический курс собирается официально одобрить откровенно шовинистические лозунги, вроде «Россия для русских!». Процитированные в начале главы опасения Блюма, связанные с массовой культурой конца 1930 годов, возможно, наилучшим образом иллюстрируют это недопонимание:
«Искажался… характер социалистического патриотизма, — который иногда и кое-где начинает у нас получать все черты расового национализма…. И положение с этим представляется мне более серьезным, что люди новых поколений — выросшие в обстановке советской культуры, "не видевшие" буржуазного патриотизма Гучковых, Столыпиных и Милюковых — этих двух патриотизмов просто не различают. Началась (я имею в виду искусство, в частности — драматургию) погоня за "нашими" героями в минувших веках, скороспелые поиски исторических "аналогий", издательства и Всесоюзный комитет по делам искусств берут ставку на всякий "антипольский" и "антигерманский" материал, авторы бросаются выполнять этот "социальный заказ"» [432].
Критикуя таких представителей творческой интеллигенции, как Эйзенштейн и Корнейчук за продвижение «уродливого, якобы социалистического расизма». Блюм выражал резкое недовольство очевидным сдвигом советской массовой культуры от интернационализма к национализму. Работник Агитпропа В. Степанов, которому было поручено провести расследование по поводу письма, пришел к выводу, что жалобы Блюма являются однобоким преувеличением, так как он не сумел увидеть прогрессивные черты исторических личностей, чьи имена были восстановлены. Вызванный на ковер в Агитпроп Блюм упрямо отказывался признать, что советские поиски полезного прошлого оправдывали использование русских государственных строителей эпохи царизма [433].
Судя по целостному характеру советской пропаганды 1939-1941 годов, партийная верхушка отметала подобную критику без лишних колебаний [434]. Хотя некоторые идейные коммунисты резко высказывались по поводу нативистских аспектов советской массовой культуры весной 1939 года, их протесты были пресечены раз и навсегда последовавшим осенью резким выговором. Свидетельств дальнейших возражений найти в источниках практически невозможно [435]. К тому же официальный курс к началу 1940 годов был настолько хорошо продуман и изложен, что не совсем ясно, сколь многочисленны были возражавшие [436]. Весьма ярким примером в этом отношении является дневниковая запись рабочего сталелитейного завода им. Молотова Геннадия Семенова, сделанная в мае 1941 года: «Читаю "Дмитрия Донского". Хорошая вещь. Прочел поэму Веры Инбер "Овидий". Очень понравилась. И все-таки "Дмитрий Донской" взволновал больше. Время-то сейчас такое напряженное, и будто голос далеких предков слышишь». Семенов предпочитает героя из русского национального прошлого современной поэтессе и находит историческую аллегорию, значимую для его собственной позиции, позиции советского патриота. О том, насколько сильное воздействие оказал на него исторический роман, говорит другая запись, появившаяся в дневнике месяц спустя. Обеспокоенный угрозой войны накануне вторжения немецких войск, Семенов описывает ели, качающиеся на ветру «как остроконечные шишаки на головах древнерусских богатырей…. Будто это дружины Дмитрия Донского идут на полчища Мамая» [437].
Неудивительно, что в результате внезапного начала военных действий против Германии в июне 1941 года на поверхность вышло множество руссоцентричных и этатистских тем, зревших в лоне официальной линии накануне войны. Молотов публично сравнил нацистскую агрессию с нападением армии Наполеона в 1812 году. Рядовые советские граждане, хорошо усвоившие такую риторику за несколько лет исторической пропаганды, положительно восприняли подобные аллюзии [438]. Нет ничего необычного и в словах некоей Румянцевой, ответственной работницы завода им. Тельмана в Москве: «Наш народ никто и никогда не победит. Нам известно из истории, что русские всегда выходили победителями, хотя в те времена в России были богатые и бедные, а сейчас, когда у нас все равноправные, в стране сложилось политическое единство народа. И этот народ никто не победит» [439].