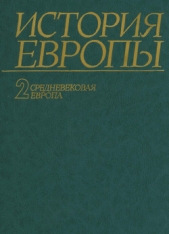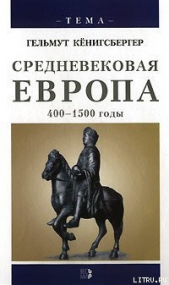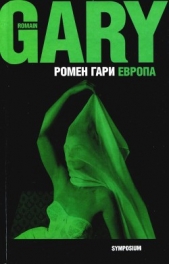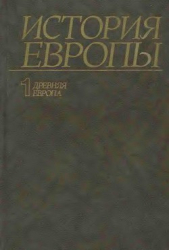Демократия. История одной идеологии
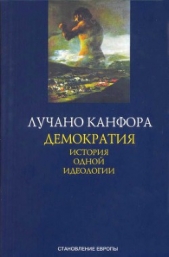
Демократия. История одной идеологии читать книгу онлайн
Лучано Канфора (р. 1942) — выдающийся итальянский историк и филолог-классик, профессор университета Бари, научный координатор Школы исторических наук Сан-Марино. Признанный знаток античной культуры, активный сторонник метода междисциплинарных исследований; его работы неоднократно становились предметом бурных полемик в научном сообществе, и эта книга — не исключение.
«Тема этой книги состоит в исследовании многовековых попыток, без конца повторяющихся, не похожих одна на другую ни методами, ни предпосылками, воплотить в жизнь — на Европейском континенте, где проблема впервые была поставлена — «народовластие», то есть демократию. И в то же время — в исследовании контрмер и противоядий, призванных ей противостоять: от стратагем античных олигархов до действенного средства, имеющего давнюю традицию и отличающегося исключительной живучестью: мы называем его «смешанной системой». А также, что неизбежно, — в исследовании феномена, ключевого для любого общества и любой государственно-политической модели: непрекращающегося порождения правящей элиты, которая тем быстрее и эффективнее завоевывает позиции, чем более «демократической» признается природа ее власти».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но якобинцы первыми осознали это. Они слушали доклад Кондорсе [150] в Законодательном собрании, когда этот величайший защитник «новых» безжалостно изобличал «растленность», какую древние с тех самых времен внедрили в умственный склад европейцев. Они, якобинцы, ввели единую систему народного просвещения, ориентированную на центральные школы, где доля классических языков была существенно урезана. Так называемый «парадокс» якобинцев, которые все-таки внесли большой вклад в формирование современной Европы, состоит в их несомненном происхождении от «новых» (они родились из ребра «Энциклопедии») и в то же время в приверженности к античной «идеологии», к образцам политических доблестей, каковыми являлись античные республики, где — вот что их завораживало больше всего — свобода и равенство вроде бы могли сосуществовать, или по крайней мере (как им казалось) сопутствовали друг другу, в чем-то сходились, имели одинаковую цену и отстаивались с равной силой и убежденностью.
За те месяцы, пока у власти находился Комитет общественного спасения, изучение греческого (а также латинского) сократилось до самого элементарного уровня: депутаты голосуют за то, чтобы классиков читали в переводах и пересказах. («Давно существуют переводы всех великих писателей», — можно прочесть уже в докладе Кондорсе.) И в то же самое время великие классики (одни предпочтительнее, чем другие) и великие персонажи той монументальной истории воспринимались как носители нормативных моделей. Их сила коренилась в их поистине универсальном характере, не привязанном к какой-то одной религии или секте. Так можно объяснить, или, вернее, понять, почему все, что сказали и о чем подумали Греки, оказывается востребованным fur ewig [151] Их опыт предшествовал христианству, был прожит задолго до него и утверждал ценности, не нуждавшиеся в такой опоре, не принадлежавшие — так можно было их прочесть — какому-то одному народу, одной вере, одной истории. Они представляли собой инкунабулы всемирного признания прав, утвержденных как таковые. Разумеется, речь шла о метаисторическом использовании этого опыта, восприятие которого на протяжении тысячелетий и возведение которого в ранг модели как раз и способствовали такому метаисторическому употреблению. И чем более смутным и приблизительным было представление об Античности, тем более возможным становилось такое идеологическое использование (и с тем большим пылом оспаривали его те, кто призывал обратиться к достоверным источникам и точным данным).
Вот почему, помимо прочих факторов, которые здесь не стоит перечислять, результаты, каких достигли англосаксонские революции, с одной стороны, и французская революция, с другой, оказались столь несхожими. Обычно упор делается на другие отличия: автономии и права личности в одних, централизм и якобинский дирижизм в другой. Но обыкновенно остается в тени основное расхождение: одни безмятежно сосуществовали с рабством и даже способствовали его поддержанию (чтобы освободиться от него, Соединенным Штатам пришлось перенести самую долгую и кровопролитную войну в их истории); вторая пришла recta via [152] к признанию никчемности «Прав человека», если они на практике зависят от цвета кожи; если с ними сочетается — за пределами «европейского» пространства — культивирование дешевой рабочей силы, принуждаемой к рабскому труду, который превращает человека в животное. Одни вдохновлялись Библией как своим первоисточником, другая искала в опыте греков и римлян, гораздо более древнем и существенно перетолкованном, точку опоры для практического распространения равенства и свободы по всему миру.
Подобную «идеологию» было легко разоблачить, опираясь на более основательное и корректное знание Античности. Но то был слишком удобный escamotage, чтобы отвергнуть сущность того, чего якобинцы, по их собственному, разумеется, предвзятому мнению, достигли, апеллируя к классической древности. Они первыми отменили рабство в колониях и поняли прежде многих других, что исключительно европейский взгляд на вещи — это такая же привилегия, но все это они проделали, воодушевляясь призраками, взятыми из картины мира, которая была основана на рабстве.
И все же существует еще материал для более непосредственной аналогии с политикой античных демократий: демократия как «насилие», как принуждение, осуществляемое социальной группой неимущих (ею были парижские санкюлоты) по отношению к привилегированным классам и богачам: этих последних не экспроприировали, но подвергали давлению, по подобию «народной диктатуры» в Афинах, с такой ярой враждебностью описанной в трактате «Об афинском государственном устройстве». Таким образом, мы окажемся недалеки от истины, если отметим, что те, кто разоблачал ложную идею античной республики, бытовавшую в якобинскую эпоху, на самом деле думали не о горестях рабов, а о преследовании богатства, которое имело место при якобинской диктатуре, с применением, например, такого орудия, подлежащего дальнейшему развитию, как отслеживание «состояний, приобретенных подозрительным путем». Так что на самом деле они защищали свободу приобретательства, эти хорошо образованные термидорианцы, когда громили античное рабство, которое «утаили» их противники.
Эро де Сешель, которому поручено составить текст Конституции 1793 года, торопит хранителя фондов Национальной библиотеки, чтобы тот выдал ему «sur-le-champ les lois de Minos qui doivent se trouver dans un recueil des lois grecques» [153]; это впоследствии вызовет у Ипполита Тэна [154] иронию — и неуместную, и свидетельствующую о предубежденности. «Представление, сложившееся о Греции и Риме, нередко смущало умы недавних поколений, — пишет Фюстель де Куланж [155] во введении к «Древнему городу», — плохо разобравшись в учреждениях античного города, они вообразили, что можно воскресить их в наши времена. Они впали в заблуждение относительно античной свободы, и единственным результатом этой иллюзии стало то, что свобода современников оказалась в опасности», и добавляет, что виновен в подобном недоразумении «непосредственно воздействующий» классицизм, характерный для системы образования, которая «с самого детства заставляет нас жить среди греков и римлян, вырабатывая у нас привычку к постоянному сопоставлению».
Вплоть до Революции вся культура и все языки (включая политические) базируются на античной классике. Но по мере удаления от Революции классицизм и прогрессизм расходятся, и более обоснованное понимание Античности — как в случае Вольнея, Констана, Токвиля и Фюстеля — тяготеет к консервативному, антидемократическому горизонту. Чем чаще обращается европейский классицизм к элитарным, антиэгалитарным ценностям античного мира и пережившей все бури традиции, тем глубже становится понимание того и другого. (Однако феномен самоидентификации с людьми античной эпохи вновь проявит себя в диаметрально противоположной форме: вдохновившись Фюстелем, Шарль Морра [156] будет восторженно говорить о «республике, основанной на рабстве большинства» и с наслаждением чувствовать себя «афинянином».)
Официальное «упорядочение» отношений между учеными-классиками и политической властью, установившейся после смуты революции, попытался осуществить, и частично преуспел в этом не кто иной как Бонапарт, вставивший и эту деталь в общую картину умеренно реорганизованного французского общества времен Империи.
Официальный документ такого упорядочения, к которому вскоре присоединились все ученые-классики Франции (и Европы), — «Rapport à l’Empereur» [«Рапорт Императору»], представленный посредственным, но ушлым Бон-Жозефом Дасье [157] и рассмотренный императором в 1808 году. Всю акцию вдохновлял, написав к тому же раздел «Рапорта», посвященный Античности, Эннио Квирино Висконти [158], который ранее основал в Риме вместе с папой Пием VI музей Пио-Клементино [159], потом превратился в интеллектуала-космополита и в конце концов поступил в Лувр хранителем «антиков». И Бонапарт лично, пользуясь своим огромным авторитетом, постоянно курировал «государственные» издания греческих классиков, например роскошное издание «Географии» Страбона, порученное, кстати, греческому изгнаннику, республиканцу, осевшему во Франции, Адамантиосу Кораису. Нельзя не отметить, что легко узнаваемой моделью для этой инициативы была «Collection du Louvre» [«Луврская коллекция»] авторов истории Византии, поддержанная в свое время Людовиком XIV Так Ancien régime и Révolution сближались между собой, по крайней мере, в плане возобновления классической традиции, но и не только.