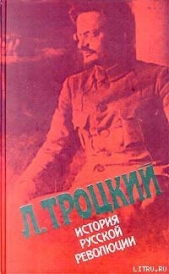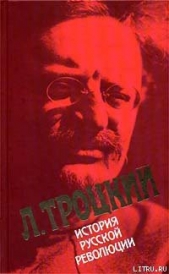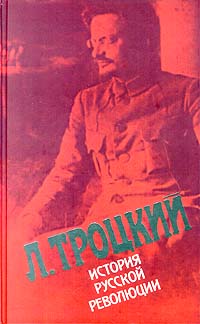История русской революции, т. 1
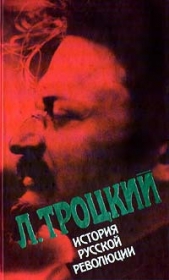
История русской революции, т. 1 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дневник царя ценнее всяких свидетельских показаний: изо дня в день, из года в год тянутся на его страницах удручающие записи душевной пустоты. "Гулял долго и убил две вороны. Пил чай при дневном свете". Прогулка пешком, катанье в лодке. И снова вороны и снова чай. Все на границе физиологии. Упоминание о церковных обрядах делается тем же тоном, что и о выпивке.
В дни, предшествовавшие открытию Государственной думы, когда вся страна сотрясалась конвульсиями, Николай писал: "14 апреля. Гулял в тонкой рубашке и обновил катанье в байдарках. Пил чай на балконе. Стана обедала и каталась с нами. Читал". Ни слова о предмете чтения: сентиментальный английский роман или доклад департамента полиции? "15 апреля. Принял отставку Витте. Обедали Мари и Дмитрий. Отвезли их во дворец".
В день решения о роспуске Думы, когда сановные, как и либеральные, круги переживали пароксизм страха, царь писал в дневнике: "7 июля. Пятница. Очень занятое утро. Опоздали на полчаса на завтрак офицерам... Была гроза и большая духота. Гуляли вместе. Принял Горемыкина; подписал указ о роспуске Думы! Обедали у Ольги и Пети. Весь вечер читал". Восклицательный знак по поводу предстоящего роспуска Думы есть высшее выражение его эмоций.
Депутаты разогнанной Думы призвали народ отказываться от уплаты налогов и отбывания воинской повинности. Произошел ряд военных восстаний: в Свеаборге, Кронштадте, на судах, в армейских частях; возобновился в небывалых размерах революционный террор против сановников. Царь пишет: "9 июля. Воскресенье. Свершилось! Дума сегодня закрыта. За завтраком после обедни заметны были у многих вытянувшиеся лица... Погода была отличная. Во время прогулки встретили дядю Мишу, который вчера переехал из Гатчины. До обеда и весь вечер спокойно занимался. Катался в байдарке". Что катался именно в байдарке, указано; а чем занимался, не сказано. Так всегда.
И далее в те же роковые дни: "14 июля. Одевшись, поехал на велосипеде в купальню и с наслаждением выкупался в море". "15 июля. Купался два раза. Было очень жарко. Обедали вдвоем. Прошла гроза". "19 июля. Утром купался. Принимали на ферме. Дядя Владимир и Чагин завтракали". Восстания и динамитные взрывы еле задеты единственной оценкой: "милые события!", которая поражает низменным безучастием, недоразвившимся до сознательного цинизма.
"В 9 1/2 ч. утра поехали в Каспийский полк... Долго гулял. Погода была чудная. Купался в море. После чая принял Львова и Гучкова". Ни слова о том, что столь необычный прием двух либералов вызывался попыткой Столыпина включить оппозиционных политиков в свое министерство. Князь Львов, будущий глава Временного правительства, рассказывал тогда же об этом приеме у царя: "Я ожидал увидеть государя убитого горем, а вместо этого ко мне вышел какой-то веселый разбитной малый в малиновой рубашке".
Кругозор царя был не шире кругозора мелкого полицейского чиновника, с той разницей, что последний все же лучше знал действительность и был менее перегружен суевериями. Единственная газета, которую Николай в течение ряда лет читал и из которой почерпал свои идеи, был еженедельник, издававшийся на казенные деньги князем Мещерским, низким, подкупным, презираемым даже в своем кругу журналистом реакционных клик бюрократии. Свой кругозор царь пронес неизменным через две войны и две революции: между его сознанием и событиями стояла всегда непроницаемая среда безразличия.
Николая не без основания называли фаталистом. Нужно только прибавить, что его фатализм был прямой противоположностью активной веры в свою "звезду". Наоборот, Николай сам считал себя неудачником. Его фатализм был только формой пассивной самозащиты от исторического развития и шел рука об руку с произволом, мелочным по психологическим мотивам, но чудовищным по последствиям. "Хочу, а потому так должно быть, -- пишет граф Витте. -- Этот лозунг проявлялся во всех действиях этого слабого правителя, который только вследствие слабости делал все то, что характеризовало его царствование, -- сплошное проливание более или менее невинной крови и большею частью совсем бесцельно..."
Николая сравнивали иногда с его полусумасшедшим прапрадедом Павлом, удушенным камарильей с согласия его собственного сына, Александра "благословенного". Этих двух Романовых действительно сближали недоверие ко всем, выросшее из недоверия к себе, мнительность всемогущего ничтожества, чувство отверженности, можно бы сказать, сознание венценосного парии. Но Павел несравненно красочное, в его сумасбродстве был элемент фантазии, хотя и невменяемой. В потомке же все тускло, ни одной яркой черты.
Николай был не только неустойчив, но и вероломен. Льстецы называли его шармером, очарователем, за его мягкость с придворными. Но особую ласковость царь проявлял как раз к тем сановникам, которых решил прогнать: очарованный на приеме сверху меры министр находил у себя дома письмо об отставке. Это была своего рода месть за собственное ничтожество.
Николай враждебно отвращался от всего даровитого и крупного. Хорошо он себя чувствовал только в среде совсем бездарных и скудных умом людей, святош, рамоликов, на которых ему не приходилось глядеть снизу вверх. У него было самолюбие, даже довольно изощренное, но не активное, без крупицы инициативы, завистливо-оборонительное. Он подбирал министров по принципу постоянного снижения. Людей с умом и характером он призывал только в самом крайнем случае, когда не было иного выхода, подобно тому как призывают хирургов для спасения жизни. Так было с Витте, потом со Столыпиным. Царь к обоим относился с худо затаенной враждебностью. Как только проходила острота положения, он торопился разделаться с советниками, которые слишком превосходили его ростом. Отбор действовал настолько систематично, что председатель последней Думы, Родзянко, отважился 7 января 1917 года, когда революция стучалась уже в двери, сказать царю: "Вокруг вас, государь, не осталось ни одного надежного и честного человека: все лучшие удалены или ушли, остались только те, которые пользуются дурной славой".
Все усилия либеральной буржуазии найти общий язык со двором не приводили ни к чему. Неугомонный и шумный Родзянко пытался своими докладами встряхнуть царя! Тщетно! Тот отмалчивался не только от доводов, но даже от дерзостей, подготовляя в тиши роспуск Думы. Великий князь Дмитрий, бывший любимец царя и будущий участник убийства Распутина, жаловался своему сообщнику князю Юсупову на то, что царь в ставке с каждым днем становится все более безразличным ко всему окружающему. По мнению Дмитрия, царя спаивали каким-нибудь снадобьем, которое притупляюще действовало на его духовные способности. "Ходили слухи, -- пишет с своей стороны либеральный историк Милюков, -- что это состояние умственной и моральной апатии поддерживается в царе усиленным употреблением алкоголя". Все это было выдумкой или преувеличением. Царю не нужно было обращаться к наркотикам: убийственное "снадобье" было у него в крови. Только проявления его казались особенно поразительны на фоне великих событий войны и внутреннего кризиса, приведшего к революции. Распутин, который был психологом, кратко говорил про царя, что у него "внутри недостает".
Этот тусклый, ровный и "воспитанный" человек был жесток. Не активной, преследующей исторические цели жестокостью Ивана Грозного или Петра, -- что у Николая II с ними общего? -- но трусливой жестокостью последыша, испугавшегося своей обреченности. Еще на заре своего царствования Николай хвалил "молодцов-фанагорийцев" за расстрел рабочих. Он всегда "читал с удовольствием", как стегали нагайками "стриженных" курсисток или как проламывали черепа беззащитным людям во время еврейских погромов. Коронованный отщепенец тяготел всей душой к отбросам общества, черносотенным громилам, не только щедро платил им из государственной казны, но любил беседовать с ними об их подвигах и миловать их, когда они случайно попадались в убийстве оппозиционных депутатов. Витте, стоявший во главе правительства во время усмирения первой революции, писал в своих мемуарах: "Когда бесполезные жестокие выходки начальников этих отрядов доходили до Государя, то встречали его одобрение и во всяком случае защиту". В ответ на требование прибалтийского генерал-губернатора унять некоего капитана-лейтенанта Рихтера, который "казнил по собственному усмотрению, без всякого суда и лиц не сопротивлявшихся", царь написал на докладе: "Ай да молодец!" Таким поощрениям нет числа. Этот "очарователь", без воли, без цели, без воображения, был страшнее всех тиранов старой и новой истории.