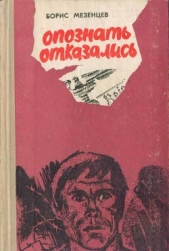Партия расстрелянных

Партия расстрелянных читать книгу онлайн
В пятом томе освещаются важнейшие политические события в СССР, начиная с июньского пленума ЦК ВКП(б) 1937 года, на котором было сломлено противодействие большому террору.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Считая, что такой вариант может заинтересовать Сталина, Бухарин выдвигал и запасной вариант: выслать его «хоть на 25 лет в Печору или Колыму, в лагерь: я бы поставил там: университет, краеведческий музей, технич. станции и т. д., институты, картинную галерею, этнограф-музей, зоо- и фитомузей, журнал лагерный, газету» [81].
Это письмо было разослано в 1956 году членам и кандидатам в члены Президиума ЦК и секретарям ЦК КПСС. Но даже оно не побудило деятелей «коллективного руководства» к каким-либо реабилитационным акциям по отношению к Бухарину.
Письмо Бухарина, разумеется, не могло вызвать у Сталина ничего, кроме глумливого удовлетворения. Оно побудило его лишь к тому, чтобы продолжать коварную игру с Бухариным. В этих целях Бухарину было позволено написать за полтора месяца до суда письмо жене, в котором сообщалось о работах, написанных им в тюрьме. Судя по содержанию данного письма, Бухарину было обещано, что все его рукописи будут переданы его жене. Бухарин даже просил её перепечатать их на машинке «по три экземпляра».
Бухарину была обещана и встреча с женой («во всех случаях и при всех исходах суда я после него тебя увижу»). Понимая, что при этой встрече откровенный разговор будет невозможен, Бухарин писал: «Что бы ты ни прочитала, что бы ты ни услышала, сколько бы ужасны ни были соответствующие вещи, что бы обо мне ни говорили, что бы я ни говорил, ‹…› помни о том, что великое дело СССР живёт, и это главное, а личные судьбы — преходящи и мизерабельны» [82].
Бухарина обманули и на этот раз. Его жена была арестована и выслана из Москвы ещё в июне 1937 года, и письмо до неё, разумеется, не дошло.
Организаторы процесса, тщательно отобрав подсудимых и применив к ним во время предварительного следствия все возможные моральные и физические истязания (в различных комбинациях), могли считать, что процесс пройдёт без каких-либо помех и накладок. Однако такие накладки начались уже в первый день суда.
V
Эпизод с Крестинским
В обвинительном заключении схема заговора была построена следующим образом. В 1928 году был образован центр подпольной организации «правых», а в 1933 году ими был создан «контактный центр» для связи с троцкистами, в результате чего и возник «право-троцкистский блок». В «центр» этого блока после арестов 1936 года входили: Розенгольц и Крестинский — от троцкистов, Бухарин, Рыков, Рудзутак и Ягода — от правых, Тухачевский и Гамарник — от военных [83].
Однако эта конструкция дала осечку уже на первом заседании суда, когда произошёл непредвиденный и тревожный для его организаторов эпизод. Во время опроса Ульрихом подсудимых, признают ли они свою вину, Крестинский ответил: «Я не троцкист. Я никогда не был участником „право-троцкистского блока“, о существовании которого ничего не знал. Я не совершил также ни одного из тех преступлений, которые вменяются лично мне» [84].
После нескольких дополнительных вопросов к Крестинскому Ульрих вынужден был перейти к опросу других обвиняемых, которые послушно подтвердили свои показания на предварительном следствии. Вслед за этим Вышинский приступил к допросу Бессонова, который превратился в перекрёстный допрос Бессонова и Крестинского. Бессонов заявил, что Крестинский в 1933 году, будучи полпредом СССР в Германии, давал ему, Бессонову, как советнику посольства, указания «не допустить нормализации отношений между СССР и Германией». В ответ на вопросы прокурора по этому поводу Крестинский отверг все показания Бессонова, заявив, что в его разговорах с последним «не было ни одного звука о троцкистских установках» [85].
Когда Вышинский задал Крестинскому вопрос, почему тот говорил на предварительном следствии неправду, проявив тем самым «неуважение к следствию», Крестинский ответил, что надеялся опорочить эти показания «на судебном заседании, если таковое будет». Тогда Вышинский, вовсе выйдя за рамки допроса Бессонова, стал задавать вопросы Гринько и Розенгольцу об их преступных связях с Крестинским. Розенгольц подтвердил, что вёл с Крестинским «троцкистские переговоры», а Гринько — что Крестинский помог ему установить связь с иностранной разведкой. Однако Крестинский продолжал упорно утверждать: его показания на предварительном следствии «от начала до конца являются неправильными» и объясняются тем, что он считал: «если я расскажу то, что я сегодня говорю… то это моё заявление (о своей невиновности.— В. Р.) не дойдет до руководителей партии и правительства» [86].
В ходе допроса Крестинский упомянул о своём письме Троцкому от 27 ноября 1927 года, где говорилось о его «разрыве с троцкизмом». Вышинский заявил, что такого письма в деле нет. Крестинский в ответ на это указал, что это письмо было изъято у него при обыске [87].
Вечернее заседание Вышинский начал с допроса Гринько, который сообщил, что Крестинский связал его с «фашистскими кругами одного враждебного Советскому Союзу государства». Во время этого допроса прокурор обратился к Рыкову, который подтвердил, что неоднократно говорил с Крестинским как с «членом нелегальной организации» [88]. Однако Крестинский по-прежнему упорно отрицал все эти факты.
На утреннем заседании 3 марта о Крестинском речи не было. Зато вечернее заседание в тот же день Вышинский начал с допроса Крестинского, который превратился в перекрёстный допрос Крестинского и Раковского. На вопрос о своих отношениях с Раковским Крестинский ответил, что после ссылки Раковского переписывался с ним и просил Кагановича о переводе Раковского из Астрахани как города с неблагоприятным климатом в Саратов. Раковский же заявил, что Крестинский «с троцкизмом никогда не порывал», и в подтверждение этого сообщил, что в 1929 году получил письмо от Крестинского, в котором последний уговаривал его вернуться в партию, «естественно, в целях продолжения троцкистской деятельности» [89].
После этого Вышинский объявил, что по его указанию «были проверены документы, изъятые при обыске у Крестинского», в результате чего было обнаружено письмо Троцкому, существование которого прокурор ранее отрицал. Были зачитаны отрывки из этого письма, в котором Крестинский писал, что тактика оппозиции за последние полгода была «трагически неправильной», а также отрывки из капитулянтского заявления Крестинского в ЦК, опубликованного в апреле 1928 года в центральных газетах.
Комментируя этот эпизод процесса, Троцкий замечал: «В 1927 году Крестинский написал мне из Берлина в Москву письмо, в котором извещал меня о своём намерении капитулировать перед Сталиным и советовал мне сделать то же самое. Я ответил гласным письмом о разрыве всяких отношений с Крестинским, как и со всеми другими капитулянтами… Но ГПУ продолжает строить свои фальшивые процессы исключительно на капитулянтах, которые уже в течение многих лет являются игрушками в его руках. Отсюда необходимость для прокурора Вышинского доказать, что мой разрыв с Крестинским имел „фиктивный характер“. Доказать это было возложено на другого капитулянта, 65-летнего Раковского, который заявил, что капитуляции были „маневром“… Раковский не объяснил, однако, а прокурор его, конечно, не спросил, почему сам он, Раковский, в течение семи лет не производил этого „маневра“, а предпочитал оставаться в тяжёлых условиях ссылки в Барнауле (Алтай), изолированный от всего мира. Почему осенью 1930 года Раковский написал из Барнаула в негодующем письме против капитулянтов свою знаменитую фразу: „самое страшное — не ссылка и не изолятор, а капитуляция“. Почему, наконец, сам он капитулировал только в 1934 году, когда физические и моральные силы его иссякли окончательно?» [90]
После зачтения выдержек из капитулянтских писем Крестинского последний внезапно заявил, что полностью подтверждает свои показания, данные на предварительном следствии. Тогда прокурор обратился к нему с вопросом, как следует в таком случае понимать его вчерашнее заявление, которое «нельзя иначе рассматривать, как троцкистскую провокацию на процессе». В ответ Крестинский сказал: «Вчера под влиянием минутного острого чувства ложного стыда, вызванного обстановкой скамьи подсудимых и тяжёлыми впечатлениями от оглашения обвинительного акта, усугублённым моим болезненным состоянием, я не в состоянии был сказать правду… И вместо того, чтобы сказать — да, я виновен, я почти машинально ответил — нет, не виновен» [91].