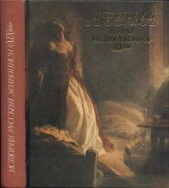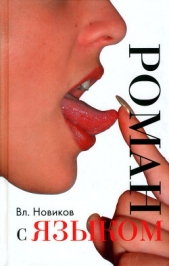Труд писателя
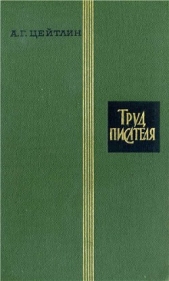
Труд писателя читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Трудности композиции еще более усиливаются, если писатель создает цикл произведений, связанных единством творческого замысла. В этом случае писателя заботит вопрос о единстве действия в произведениях, повествующих о исторических периодах, — см. историческую трилогию Сенкевича («Огнем и мечом», «Потоп», «Пан Володыевский»), трилогию Драйзера («Финансист», «Титан» и «Стоик»). Гончаров рассматривал как трилогию свои романы «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв». В них действовали различные герои и героини, но, несмотря на это, русский романист объединял их историей русской дореформенной жизни, ее «сна» и «пробуждения».
Написав повесть «Мать», Горький берется затем за ее продолжение (повесть «Сын»), осмысляя оба произведения как две части единого художественного целого. Задумав одну драму о Валленштейне, Шиллер по мере разработки замысла отказывается от мысли исчерпать этот сюжет в одной драме и создает трилогию. Бальзак и Золя идут еще дальше, создавая циклы романов — «Человеческая комедия» и «Ругон-Маккары», — между «отдельными томами» последних «существует мощная связь, которая сольет их в единое и обширное целое». В предисловии к «Ругон-Маккарам», напечатанном перед романом «Карьера Ругонов», Золя говорил о своем намерении «отыскать и проследить нить, математически ведущую от человека к человеку. И когда я (продолжал Золя) соберу все нити, когда в моих руках окажется целая общественная группа, я покажу ее в действии, как участника исторической эпохи, я создам ту обстановку, в которой выявится сложность взаимоотношений, я проанализирую одновременно и волю каждого из ее членов и общий напор целого». Понятно, какие композиционные трудности порождает эта «цикличность»: романисту приходится не только координировать между собою тематику отдельных романов, но и возвращаться в них к одним и тем же персонажам, переходящим из произведения в произведение. Это явление «повторяемости» и возврата персонажей, сравнительно слабо разработанное в русской литературе, характерно для Золя.
История литературы знает еще более сложные явления циклизации: см., например, «Человеческую комедию» Бальзака, многотомное произведение, которое, как указывал его создатель, «имеет свою географию, как свою генеалогию, и свои фамилии, свои места и свои вещи, своих людей и свои события, как и свои гербы, свою знать и своих буржуа, своих ремесленников и своих крестьян, свою армию, словом весь свой мир». На страницах этого многотомного цикла романов действовали персонажи, биография которых уяснялась вполне только после прочтения всего цикла: они действовали в разных романах последнего, выступая то в центральной роли героя, то занимая более скромные места на втором плане сюжета. «Если вы, — писал Бальзак, — оставляете какое-либо действующее лицо, скажем г-на де Растиньяка в «Отце Горио», в середине его карьеры, значит вы должны его снова встретить в «Силуэте маркизы» («Силуэт женщины»), в «Деле об опеке», в «Высших банковских сферах» («Банкирский дом Нусингена») и, наконец, в «Шагреневой коже»...» То же явление «повторяемости героев» отличает и другой романический цикл французской литературы — «Ругон-Маккаров» Золя. Понятно, как усложнялся этим труд писателя.
«Композиция вещи, — пишет Федин, — должна быть прозрачной и стройной, читатель должен чувствовать, в какое время живет герой, где центр событий, что важно и что менее важно для хода действий, для развития основной идеи». Обо всем этом напряженно раздумывает художник слова.
Глава одиннадцатая
ЯЗЫК
Работа над языком
Отвечая однажды на вопрос, как он начал писать, Горький отметил ту важную роль, которую играло в его отроческой работе экспериментирование над языком. «Сначала записывал пословицы, поговорки, прибаутки, которые формировали мои личные впечатления: «Эх, жить весело, да — бить некого», или нравились мне своей фокусной затейливостью: «Кишка кишке кукиш кажет». Я, разумеется, знал, что такое кукиш, но слог «ку» во втором с конца и буква «ш» в последнем слоге казались мне лишними и поговорку читал так: «Кишка, кишке — кишка же». Затем начал сам сочинять поговорки: «Сел дед, поел дед, вспотел дед, спросил дед: скоро ли обед?» Записывал непонятные мне фразы из книг: «Собственно говоря — никто не изобрел пороха». Я долго не мог понять, что значит «собственно говоря», а слово «никто» было воспринято мною так: некто, кто-то. Это недоразумение настолько крепко въелось в мою память, что в 1904 году в пьесе «Дачники» один из ее героев на вопрос «Никто не был?» отвечает: «Никто не может быть или не быть».
Это признание великого русского писателя указывает на исключительную важность его работы над языком уже в самую раннюю пору сознательного отношения к слову. Горький раньше других почувствовал необходимость выработать свою собственную систему речевых средств. Проблема эта встает перед каждым писателем.
Анализ различных сторон поэтической структуры был бы не полон, если бы мы обошли вопрос о языке. Доля писательского труда, отданная языку, особенно велика, ибо художник слова оперирует средствами поэтической речи, постоянно опираясь на речевой опыт своего народа. «Первоэлементом литературы является язык — основное орудие ее и — вместе с фактами, явлениями жизни — материал литературы» (М. Горький). «Язык, — справедливо указывает Федин, — всегда останется основным материалом произведения. Художественная литература — это искусство слова. Даже столь важное начало литературной формы, как композиция, отступает перед решающим значением языка писателя. Мы знаем хорошие произведения литературы с несовершенной или даже плохой композицией. Но хорошего произведения с плохим языком быть не может».
Работа писателя над произведением нередко начиналась с некоего речевого образа. У Федина творчество началось со случайно услышанного писателем выражения, бытовой речи. «Летом 1919 года, под Сызранью, я осматривал фруктовые сады, довольно захиревшие после войны с чехословаками. Сторож, сопровождавший меня, сказал, между прочим, вспоминая о старых «хозявах»: «уехали — словно все с собой взяли». Я спросил: «Ну, а как же с новыми «хозявами»?» Он ответил: «Вона в кирпичном сарае ни одного кирпича не осталось, в собаку нечем бросить». Пока я доехал на лошади до города, у меня был готов рассказ «Сад».
Представляя собой специфическое оружие литератора, язык в то же время призван выражать собою его самые заветные чаяния. Данте заявляет, что целью его труда являются поиски «слов, более достойных для Беатриче. Для этого я учусь, сколько могу». Эти поиски слов, которые были бы «достойны» избранного художником предмета, необычайно трудны и ответственны. Однако без овладения средствами языкового выражения, без выработки оригинальной системы этих средств не может быть стилевого своеобразия писателя, а стало быть для него невозможно и самое творчество.
Вот почему всякий сколько-нибудь значительный писатель неослабно размышляет над проблемами языка, которые он рассматривает в аспекте развития литературного языка народа. Л. Толстой, казалось бы, не имел нужды в таком размышлении — язык свой он выработал уже в первом, дебютном произведении «Детство». Такое предположение, однако, поверхностно. Напряженные творческие искания Толстого проявлялись и в области языковых средств, демократизации которых он с особенной настойчивостью добивался начиная с 80-х годов. Именно в пору написания «Исповеди» и обращения к жанрам народной драмы и новеллы Толстой с особой отчетливостью осознает ограниченность средств русского литературного языка, как ему казалось, все еще ориентировавшегося на узкую интеллигентскую аудиторию. Мемуаристы свидетельствуют о напряженном внимании Л. Толстого к проблеме языка. Как сообщал Н. Страхов, романист «каждый день все более бранит наш литературный язык, называя его не русским, а испанским. Все это, я уверен, даст богатые плоды». Из «объяснений», данных ему Л. Толстым, Страхов «убедился, что он необыкновенно дорожит авторским языком». Еще в ранний свой дневник Толстой заносит такое характерное требование: «Пробный камень ясного понимания предмета — быть б состоянии передать его на простом языке необразованному человеку». Стремясь к этой простоте, писатель с неудовольствием отмечал давление на него «этого скверного книжного интеллигентского языка», Ознакомление с сокровищницей живой русской речи быстро принесло свои плоды — Л. Толстой скоро «стал удивительно чувствовать красоту народного языка и каждый день «делать» открытия новых слов и оборотов».