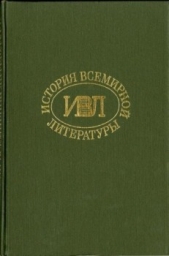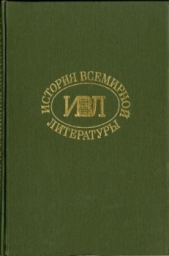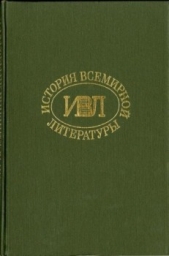История всемирной литературы Т.6
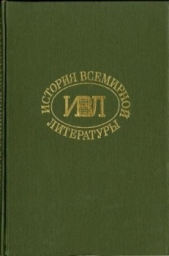
История всемирной литературы Т.6 читать книгу онлайн
Шестой том «Истории всемирной литературы» посвящен литературному процессу первой половины XIX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Такова и трансформация образа романтического гения в эту эпоху. Отвратив свои взоры от мира, он испробовал и позицию крайнего смирения, растворения в боге (ранний Ламартин), и, напротив, позицию радикального сомнения в благости творца, бунта против теодицеи («Моисей» и «Дочь Иеффая» Виньи), чтобы прийти затем, в 30-е годы, к идее социальной миссии поэта, осознаваемой во всей ее трагической сложности.
Такова, наконец, и судьба исторической темы — одной из магистральных линий французского романтизма, открывающейся в 20-е годы. Историография и философия истории в эпоху Реставрации стремились осмыслить прежде всего уроки недавних социально-политических потрясений. Жажда стабильности выражалась в том, что историки либерального направления (Тьер, Минье, Гизо), осуждая «эксцессы» революции, в то же время как бы снимали недавний накал страстей, ища положительного смысла в ее событиях и уроках. В этой атмосфере последовательно и радикально реставрационные и контрреволюционные идеи (например, в трактатах Жозефа де Местра этой поры) оказывались, как ни странно это поначалу выглядит именно для эпохи Реставрации, непопулярными, вызывающе крайними и «архаическими»; известно, как решительно возражал Виньи против позиций де Местра. Напротив, у французов находит сейчас сочувственный отклик уравновешенная гегелевская идея конечной правоты «мирового духа» и разумности его установлений, идея прогресса человеческой истории, осмысляемая и в сочинениях названных выше историографов, и в лекциях по истории философии Кузена, и в «Общественной палингенезии» Балланша. Философия истории во Франции тянется в этот период к оптимизму, жаждет найти в истории человечества обнадеживающие черты.
Но, преломляемая в литературе в конкретных человеческих судьбах, поверяемая не только широкими масштабами эпохи, человечества и «мирового духа», но и масштабами индивидуального жребия, проблематика исторического добра и зла утрачивает свою однозначность и обретает огромную трагическую напряженность, оборачиваясь поистине взрывчатыми конфликтами личности и истории, прогресса и реакции, политического действия и нравственности. За антимонархической и антидеспотической направленностью романтических произведений о прошлом ощущается и более общая тревога за судьбу индивида и человечества, внушаемая, конечно же, и раздумьями над современными тенденциями общественного развития. Так, у Виньи в его исторических произведениях остро ставится тема «цены прогресса», тема нравственной себестоимости исторического деяния. Ранний Дюма, еще несомый волной подлинного «серьезного» историзма, еще не отправившийся искать отдохновения в поэтике исторического приключенчества, тоже осмысляет историю как трагедию: такова тема бесчеловечной аморальности и неблагодарности сильных мира сего в его драмах «Двор Генриха III» (1829), «Нельская башня» (1832); такова картина феодальных междоусобиц в его первом историческом романе «Изабелла Баварская» (1836) — романе еще «по-скоттовски» проблемном, с его панорамой народных и национальных бедствий, с многозначительным авторским рассуждением о том, что «надо обладать твердой поступью, чтобы, не страшась, спуститься в глубины истории». Балланш наряду с величественными оптимистическими горизонтами «Орфея» и «Общественной палингенезии» набрасывает и апокалиптически-мрачное «Видение Гебала» (1831).
Не ностальгическое утешение нес с собой интерес к истории, а чувство необратимой вовлеченности индивида в общественный процесс — чувство, обострявшееся с огромной быстротой по мере обнаружения резких социальных противоречий эпохи Реставрации. Уже в 1826 г. Ламартин признается, что его голова «занята больше политикой, чем поэзией», всего лишь через восемь лет после элегии «Одиночество» с ее решительной формулой: «Что общего еще между землей и мной?» (Пер. Б Лившица).
Французский романтизм в эту — формально победную — свою эпоху на самом деле открывает по всем фронтам новые и новые противоречия самого своего сознания, его принципиальную «негармоничность», и не случайно в одном из главных романтических манифестов этой поры — предисловии Гюго к драме «Кромвель» (1827) — суть современного искусства воплощается в понятии драмы, а центральными опорами художественной системы романтизма объявляются принципы контраста и гротеска. В жанровом плане это нашло свое прямое выражение в бурном развитии романтической драматургии во Франции, несомненно стимулированном Июльской революцией. На рубеже 20—30-х годов одна за другой театральные премьеры взрывались как бомбы, причем сшибки чисто по-романтически преувеличенных «роковых» страстей в этих драмах постоянно приобретали резкие антимонархические и антибуржуазные акценты. Расцвет этого жанра связан прежде всего с именами Гюго, Виньи и Мюссе, но на начальном этапе заметное место в этом ряду занимает и Дюма (его уже упоминавшиеся исторические драмы, драма на современный сюжет «Антони», 1831). Элементы «бурной» романтической поэтики проникают даже в популярную у тогдашней широкой публики псевдоклассицистическую трагедию Казимира Делавиня («Марино Фальеро», 1829; «Людовик XI», 1832; «Семейство лютеровских времен», 1836).
Первые по времени художественные триумфы романтизма в рамках этой эпохи связаны с именем Альфонса де Ламартина (1790—1869). Его сборник стихов «Поэтические размышления» (1820) стал не только одной из вершин романтической литературы Франции, но и первой манифестацией французского романтизма в лирике. Субъективная основа романтизма приближалась здесь к одному из самых чистых своих выражений. Все в этих стихах — сосредоточенность на внутреннем мире поэтической души, демонстративная отрешенность манеры и жеста, молитвенная экстатичность тона — являло собой контраст и социальной злободневности, и традиции патетической риторики, преобладавшей во французской поэзии прошлого. Ощущение контраста и новизны было столь велико, впечатление абсолютной интимности этих элегических излияний столь неодолимо, что поначалу осталась незамеченной глубинная связь поэзии Ламартина с традицией: бросающаяся в глаза спонтанность лирического порыва здесь на самом деле методически воспроизводится снова и снова, становится в результате не только «криком души», но и вполне рассчитанным «техническим» приемом, под стать искусной перифрастичности классицистической поэзии. Настойчивая задушевность тона не исключает на самом деле традиционно-велеречивого витийства, а лишь переключает его в иные, более интимные сферы (то, что позже, видимо, и заставило Пушкина определить Ламартина как поэта «сладкозвучного, но однообразного»).
Впечатление отрешенности создавалось прежде всего благодаря самой тематике этих стихотворений. Лирический герой Ламартина не просто уединившийся от мира и его страстей анахорет — его помыслы еще и постоянно устремлены ввысь, к богу. Но сам тон и смысл его общения с верховным существом полны глубокого и неослабного драматизма, делающего в конце концов отрешение невозможным. Ламартин избирает для себя позицию демонстративной религиозности, крайнего смирения и пиетизма.
Во многом, конечно, это продолжение шатобриановской проблематики лирическими средствами. Но если Шатобриан видел себя вынужденным пространно доказывать преимущества религии, то Ламартин напрямик, без посредников говорит с богом, чье существование для него не стоит под вопросом. Под вопросом все больше оказывается то, способен ли бог — исходно полагаемый всеблагим и разрешающим все земные сомнения — заслонить и заменить собою мир в душе безраздельно вверяющегося ему поэта.
Если восстановить хронологический порядок создания отдельных стихов первого сборника, то он явит достаточно традиционную картину возникновения религиозного пиетизма как одной из характерных для романтического сознания утопий. Самые первые стихи на эту тему навеяны глубоким личным переживанием — безвременной смертью любимой женщины. Как ранее у Новалиса, у Ламартина возникает желание переосмыслить смерть, увидеть в ней переход в иной, лучший мир («Бессмертие»), найти утешение в сознании бренности посюстороннего мира («Озеро»). То, что страдает здесь именно поэт и именно романтический поэт, ясно прочитывается в стихотворении «Слава» («Профану на земле даны все блага мира, но лира — нам дана!»). Психологически вполне понятен в этой ситуации и кощунственный ропот, приступы сомнений в благости творца, не пожелавшего дать человеку абсолютное блаженство: «Рассудок мой смятен — ты мог, в том нет сомненья, — но ты не захотел» («Отчаяние»). Так возникает образ «жестокого бога», по отношению к которому человеку дано «роковое право проклинать» («Вера»).