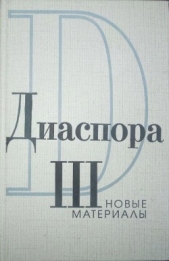Русские символисты: этюды и разыскания

Русские символисты: этюды и разыскания читать книгу онлайн
В книгу известного литературоведа вошли работы разных лет, посвященные истории русского символизма. Среди героев книги — З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Вяч. Иванов, И. Коневской, Эллис, С. М. Соловьев и многие другие.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
но примечательно, что об этих устремлениях Волошин говорит в стихотворении «Таиах» (1905), представляющем собой как раз пример завороженности автора магическим кругом сугубо эстетических отражений: дорогие и близкие черты лица Маргариты Сабашниковой открываются ему в скульптурном портрете египетской царицы Таиах, увиденном в парижском музее Гиме.
Под знаком символических отголосков и отсветов Волошин воспринял и общественные события, в 1905 г. потрясшие Россию. Утром 9 января он приехал из Москвы в Петербург и стал очевидцем Кровавого воскресенья. Подробно описав увиденное в очерке «Кровавая неделя в Санкт-Петербурге», Волошин закончил предсказанием: «Эти дни были лишь мистическим прологом великой народной трагедии, которая еще не началась. Зритель, тише! Занавес поднимается…» [879] То же предсказание — в его стихотворении «Предвестия», навеянном теми же событиями: «Уж занавес дрожит перед началом драмы…» Не сумев достаточно отчетливо разобраться в злобе дня (сам он не раз говорил о том, что первая русская революция прошла мимо него), Волошин с подлинно пророческой зоркостью обозначил контуры революции грядущей, доверяя тайным предвестиям и не для каждого очевидным параллелям больше, чем газетным извещениям и непосредственным наблюдениям. И если отдельные образы в волошинских предвидениях покажутся лишь случайными совпадениями (едва ли поэт в строке из «Предвестий»: «Чертит круги, и строит пентаграммы» — конкретно прозревал пятиконечный символ будущего пореволюционного государства), то общая картина надвигающейся реальности, нарисованная в стихотворении «Ангел Мщенья» (1906), воспроизведена со столь же поражающей мерой символической адекватности, которая отличает «Краткую повесть об антихристе» Владимира Соловьева, созданную несколькими годами ранее:
Увидев в Кровавом воскресенье грандиозное символическое жертвоприношение, Волошин трактует революционные события как неизбежное и по-своему священное возмездие. Им овладевает идея казни царя как искупительной жертвы, имеющей сакральное значение. 4 июля 1905 г. он пишет М. Сабашниковой: «В слабости, безволии, чувствительности и слепоте Николая II есть что-то, что ясно указывает на его обреченность. У Людов<ика> XVI это было, но в несравненно меньшей степени. Но и громадность и полнота искупления далеко не были так значительны, как это предстоит теперь. <…> Сознание священной неизбежности казни Царя во мне теперь растет не переставая» [881]. С думами о России и революции он переводит стихотворение Э. Верхарна «Голова» (у Волошина — «Казнь») и пишет стихотворение «Царь — жертва! Ведаю и внемлю…», дающие поэтическое воплощение этой идеи: «Бледный Царь стране своей сораспят // И клеймен величием стигмат». 11 июля (н. ст.) 1905 г. Волошин читает в парижской масонской ложе доклад «Россия — священное жертвоприношение». Ключ к пониманию настоящего и будущего ему дают исторические аналогии. Эшафот Людовика XVI, кровавая расправа над французской аристократией («Голова madame de Lamballe», 1906), гильотина как «введение машинного производства в область смерти» и способ проведения систематизированного террора (статья «Гильотина как филантропическое движение») [882], — все эти лики Великой французской революции для Волошина — не столько историческое воспоминание, сколько предзнаменование и типологизированный образ любых революционных катаклизмов. Наиболее широко он затрагивает проблему революции и революционного возмездия в статье «Пророки и мстители» (1906), в которой — опять же в характерном для него иррациональном, отвлеченно-метафизическом преломлении — выстраивает историософские проекции и аналогии, отражающие не столько логику реального социально-исторического процесса, сколько яркую фантазию и проникновенную интуицию художника, и вновь приходит к неизбежным выводам из символических соответствий: «В настоящую минуту Россия уже перешагнула круг безумия справедливости и отмщения» [883].
Угадывание в свершавшихся или до времени только угрожавших событиях российской истории сценария, уже отыгранного во Франции, было обусловлено не только тем, что Волошин внимательно изучал в это время «Историю французской революции» Жюля Мишле и «Историю жирондистов» Альфонса де Ламартина, не только участившимися в 1905–1906 гг. в русской литературной среде апелляциями к французским революционным прообразам, но и самой природой творческих интересов и предпочтений поэта. Французские темы затрагиваются более чем в половине из всех написанных им статей. Франция и ее культура стали для Волошина той универсальной мерой, которая помогала ему в понимании и оценке любых явлений действительности. Вероятно, с самого раннего детства — с тех пор как он услышал «Подростка» Достоевского в чтении матери — Волошину запомнились признания Версилова, которые он привел в статье «Осколки святых чудес» (1908): «Один лишь русский <…> получил уже способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец. Русскому Европа так же драгоценна, как и Россия: каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же была отечеством нашим, как и Россия. О, более!» [884] Для Волошина дорогая его сердцу Европа сконцентрировалась главным образом во Франции. Эта страна ощущалась им как подлинная родина и при осознании критериев, которыми определялась культуросозидательная деятельность. «Во всем, что Вы пишете и говорите, — признавался Волошин Л. И. Гроссману (17 декабря 1924 г.), — я особенно ценю то глубокое уважение к литературе и к творчеству, которого совершенно нет в русском литературном быте и которого так бессознательно много разлито во Франции. Вы очень „француз“ в этом отношении. В каждом Вашем слове много точности и внимательности, и благородного отношения к тому, о чем Вы пишете» [885].
В отличие от других символистов «второй волны», Волошину был особенно близок именно «острый галльский смысл», а не «сумрачный германский гений» (его юношеский интерес к немецкой культуре очень быстро пошел на убыль). Определенно французский генотип прослеживается и в таких особенностях творческого мышления и стиля Волошина, как стремление к объективированной проясненности и красочной выразительности образов, свобода фантазии (но в союзе с логикой!), любовь к парадоксам, позволяющим увидеть в новом ракурсе то или иное устоявшееся явление или проблему. «Гений, парадоксов друг» — это уподобление Пушкина («О сколько нам открытий чудных…», 1829), безусловно, всецело разделялось Волошиным. Заостренные до парадокса параллели и аргументы помогали поэту и критику сохранять свежесть и непосредственность восприятия и в то же время — в согласии с давним суждением Лихтенберга: «Острый ум — изобретатель, а рассудок — наблюдатель» [886] — выходить за пределы житейской рациональной описательности, ощущать скрытые биения бытия и сознания и претворять их в новый образ действительности.