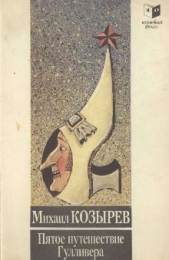Собеседники на пиру. Литературоведческие работы

Собеседники на пиру. Литературоведческие работы читать книгу онлайн
В настоящее издание вошли литературоведческие труды известного литовского поэта, филолога, переводчика, эссеиста Томаса Венцлова: сборники «Статьи о русской литературе», «Статьи о Бродском», «Статьи разных лет». Читатель найдет в книге исследования автора, посвященные творчеству Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, поэтов XX века: Каролины Павловой, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Владислава Ходасевича, Владимира Корвина-Пиотровского и др. Заключительную часть книги составляет сборник «Неустойчивое равновесие: Восемь русских поэтических текстов» (развивающий идеи и методы Ю. М. Лотмана), докторская диссертация автора, защищенная им в Йельском университете (США) в 1985 году. Сборник издавался в виде отдельной книги и использовался как учебник поэтики в некоторых американских университетах.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Помню, что Бродский очень резко отзывался о многих популярных сочинениях, посвященных Ахматовой, — в том числе и сочинениях, написанных его знакомыми и друзьями. Об одной такой книге он сказал: «За Анной Андреевной стояла поразительная субстанция — та самая субстанция, откуда все берется. В книжке ее нет ни следа». Исключение делалось для дневников Лидии Чуковской и особенно для непритязательных воспоминаний Михаила Ардова, в которых зафиксированы примеры ахматовского юмора: этот юмор, всегда сопряженный со стоицизмом, нравственной силой и однозначной иерархией ценностей, Бродский несомненно относил к «субстанции», представителем которой Ахматова для него была. Самому ему подобный юмор — хотя и более резкий, «осовремененный» — был в высшей степени свойствен.
У Ахматовой Бродский прежде всего учился самоиронии, трезвому взгляду на человеческие отношения, на историю и смерть. Для него Ахматова была живым воплощением петербургской традиции и вообще высокой традиции русской культуры. В моем дневнике записаны его слова, сказанные им в 1989 году: «Была какая-то традиция, идущая от Петра, от Кантемира — она кончилась на людях, которых мы еще застали». Под «людьми, которых мы еще застали», подразумевалась Ахматова и ее ближайший круг. Знаком традиции, кстати, было само название Санкт-Петербурга, и я хорошо помню восторг Бродского, когда 55 процентов жителей «переименованного города» проголосовали за возвращение ему прежнего имени: он жалел только о том, что до этого не дожили ни Ахматова, ни Надежда Яковлевна Мандельштам. Несомненно, Бродский усвоил от Ахматовой лишенное иллюзий, стоическое и презрительное отношение к тоталитарной империи, в которой обоим поэтам пришлось провести большую часть жизни. Приведу два его высказывания, относящиеся к этой теме, — тоже из своего дневника: «От милленаризма не закружились только две головы, и при этом женские — Цветаевой и Ахматовой». «Нам с тобой в жизни очень повезло: все время было что-то неожиданное впереди. Была явная цель — одолеть Бармалея, как говаривала А[нна] А[ндреевна]. И это окрашивало любое действие». Бармалеем — комическим, хотя и опасным людоедом из сказки Корнея Чуковского — в ахматовском кругу обычно назывались власти предержащие.
Многие критики подчеркивают, что Ахматова была для Бродского скорее нравственным, чем профессиональным примером. Об этом не раз говорил и сам Бродский. Характерен его рассказ, приведенный в беседах с Соломоном Волковым: «Мы сидели у нее на веранде, где имели место все разговоры, а также завтраки, ужины и все прочее, как полагается. И Ахматова вдруг говорит: „Вообще, Иосиф, я не понимаю, что происходит; вам же не могут нравиться мои стихи“. Я, конечно, взвился, заверещал, что ровно наоборот. Но до известной степени, задним числом, она была права. <…> „Сероглазый король“ был решительно не для меня, как и „перчатка с левой руки“ — все эти дела не представлялись мне такими уж большими поэтическими достижениями» [546]. В чисто профессиональном смысле важнее и интереснее ранней Ахматовой для него были Цветаева, Мандельштам, Хлебников и даже Маяковский (впрочем, не Пастернак). Краткие, эпиграмматические, строгие по метру стихи ахматовского типа у Бродского, исключая разве что начальную его пору, скорее редки: чем далее, тем более он стремится к обширным, крупномасштабным построениям, запутанному синтаксису, головокружительным инверсиям и переносам, сложной, даже шокирующей метафоре и прежде всего — к строгому логическому развитию темы. В марте 1972 года я записал его слова: «Русская поэтика <…> тормозит развитие мысли, и в России есть установка на маленький шедевр. Но началась русская поэзия с Кантемира. А у него была, грубо говоря, диалектика, изложение разных точек зрения, затем — своей. Подобные каркасы умели строить еще Баратынский и Цветаева». Именно такие «каркасы» — характерная черта поэтики зрелого Бродского, но никак не Ахматовой. Согласно Кейсу Верхейлу, Ахматова обращена скорее к res, в то время как для Бродского в центре оказывается logos: «Бродский скорее русский поэт многословного типа, поэт не тишины, а увлекающего словесного гула» [547]. Если искать прецеденты не в петербургской литературе, а в петербургской архитектуре, можно сказать, что Ахматова ориентируется на классицизм Кваренги, а Бродский — скорее на барокко Растрелли.
Впрочем, эта противоположность «простой», «конкретной» Ахматовой и «сложного», «абстрактного» Бродского порою преувеличивается. Можно найти многое, что в техническом плане связывает Бродского и Ахматову и отделяет их, скажем, от Цветаевой: интерес к «натюрморту», сдержанность тона при высоком трагическом напряжении, афористичность. «Ахматова — поэт очень емкий, иероглифический, если хотите. Она все в одну строчку запихивает», — говорил Бродский Соломону Волкову [548]. То же самое можно сказать о самом Бродском: разница в том, что запоминающиеся «иероглифические» строчки у него не заключены в коротком стихотворении, а разбросаны по большому пространству. Поздние стихи Ахматовой, которые нравились Бродскому куда больше, чем ранние, и особенно «Поэма без героя», которую он высоко ценил, предвещают его творчество своей загадочностью и многослойностью (кстати говоря, к «Поэме без героя» отчасти восходит интерес Бродского к «прекрасной эпохе»). Стоит заметить и то, что Ахматова знала английский и больше, чем Цветаева или Мандельштам, интересовалась английской поэзией — «англоязычная» ориентация Бродского, видимо, в определенной мере унаследована от нее. Наконец, стихи двух поэтов ориентированы на произнесение, на голос, и в манере чтения обоих можно обнаружить сходные черты.
В целом поэтическую связь Ахматовой и Бродского вряд ли правомочно трактовать в обычных терминах anxiety of influence {15}: по точному замечанию Льва Лосева, в своем отношении к старшему поэту — по крайней мере в этом случае — он был «от страстей эдиповых избавлен» [549]. Сам Бродский в интервью 1991 года утверждал: «Сказать, что она на меня не оказала влияния, или сказать, что она оказала влияние, — это не сказать ничего» [550]. Сильнейшая интериоризация Ахматовой вела к тому, что Бродский не отталкивался от нее и тем более не повторял ее, а продолжал, причем это продолжение могло завести в далекие от Ахматовой регионы. Ключ его взаимоотношений с Ахматовой, пожалуй, дан в драме «Мрамор», где цитируются строки из ахматовского «Летнего сада»:
Туллий. …Как сказано у поэта:
Публий. Это кто сказал?
Туллий. Не помню. Скиф какой-то. Наблюдательный они народ. Особенно по части животных.
<…>
Туллий. А поэт там начинает, где предшественник кончил. Это как лестница; только начинаешь не с первой ступеньки, а с последней. И следующую сам себе сколачиваешь… Например, в Скифии этой ихней кто бы теперь за перо ни взялся, с лебедя этого начинать и должен. Из этого лебедя, так сказать, перо себе выдернуть…
Едва ли не наиболее впечатляющим примером диалога Бродского и Ахматовой, — продолжая сравнение Туллия, той «следующей ступенькой», которой младший поэт продолжил ахматовскую лестницу, — являются знаменитые стихи «Сретенье» (1972). Это одно из сравнительно немногочисленных стихотворений Бродского, которое можно назвать чисто религиозным, христианским. Правда, едва ли не каждый год он писал стихи на Рождество, которые в конечном счете составили целую книжку; но «Сретенье» отличается от рождественского цикла и темой, и более строгим следованием евангельскому тексту.